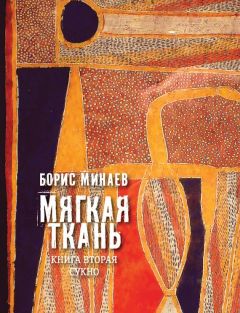Ну да, это его сегодняшняя жизнь, другой не было, и она, жизнь, заполнила собой целиком все его существование, все, буквально, все его клеточки и мысли.
Но получалось так, что эта жизнь не только его, но и ее заполнила целиком, по крайней мере ему так казалось. В сущности, это могло бы стать выходом. Тяжесть, которая копилась в нем все эти месяцы, внезапно выплыла наружу. Встала комом в горле. Он вышел под сосны покурить.
Если однажды он останется у нее, вообще же ничего не изменится. Взял человек и исчез. Надолго, может быть навсегда. И для Варвары Петровны ничего не изменится – мужа-то на самом деле нет. Нет никаких материальных свидетельств, что он существует. Есть женщина и трое детей, которые нуждаются в Даниной помощи.
Где-то на соседнем участке страшно заорала кошка. Коты в это время года почему-то вели тут, в Малаховке, бурную ночную жизнь. Он поежился, потому что было прохладно.
Или потому что его немножко трясло.
Он постоянно думал про папу с мамой, про их библейскую верность, про папин характер, а оказалось, что и для него иных вариантов не существует. Хотя иной вариант – вот он, был рядом. Протяни руку. Скажи доброе слово, и все. Если уж освобождаться, то, может быть, от всего сразу?
Но он не мог, да и не хотел.
Все это было какое-то нежное, жалкое, доброе, прекрасное, манящее и волнующее, но не свое.
Свое он создал сам, медленно, год за годом, месяц за месяцем, его дети, его жена, его дом – это, в сущности, и был он. Даня Каневский, сорокадвухлетний мужчина с рано начавшей лысеть головой. Легко и просто войти в чужую жизнь, стать другим – не получалось никак. Но и не входить было трудно в эту чужую жизнь.
Он словно стоял на пороге, вглядываясь в темноту комнаты. Но что там? Что там?
Году в пятьдесят восьмом, больше чем через двадцать лет после всех этих событий, ему рассказали историю про одного преподавателя. Он преподавал марксистско-ленинские науки и страноведение в одном очень важном заведении, в котором учились будущие генералы или очень важные полковники. Так вот, что-то там у этого преподавателя не заладилось, какой-то был конфликт или не конфликт, но помрачение на общем радужном фоне его жизни: выступил на собрании, ему возразили, он возразил тоже, и поползла некая тучка на ярком синем небосклоне, и вот с этой тучкой он долго-долго жил и даже к ней как-то привык, но вот однажды, когда он шел на работу из своей квартиры, а так получилось, что эта квартира находилась непосредственно не территории учебного заведения, на третьем этаже, в жилом корпусе, дежурный курсант вдруг преградил ему дорогу штыком, внимательно рассматривая удостоверение, ну просто опустил руку с винтовкой и, рассматривая удостоверение, тихо-тихо сказал, не поворачивая головы: а вам лучше туда не ходить, Иван Иванович, лучше вам побыть дома. И вот эти слова часового, они оказали на него какое-то волшебное действие, он вдруг понял, что вся правда заключена именно в них, что не только на работу, но и всюду, где есть люди, ему ходить не надо, и тогда то, что еще не случилось, но может случиться, обойдет его стороной, если выполнить это простое условие, закрыть за собой дверь. И вот в то утро он повернул назад, зашел в свою служебную квартиру и тихо закрыл за собой дверь. Потом он надел пижаму, лег на кровать и больше не вставал.
Окно закрывал как будто тюль, и его не было видно из дома напротив даже при незакрытой занавеске. Он лежал, закрыв глаза, и ждал, что будет дальше. Но каким-то чудом получилось так, что о нем вдруг все забыли – и начальство, и студенты, и чекисты, и партия, и правительство, и сам господь бог, он лежал дома, как царевна в хрустальном гробу, жена приходила с работы, молча делала котлеты и приносила их ему, так же как утром – кашу и вареное яйцо, разговаривали они только ночью, шепотом, не зажигая света. Это была какая-то загадка, но его так никто и не искал, никто ни о чем не спрашивал, видимо, суть интриги была в том, чтобы он вот так, полностью, внезапно исчез, растворился, растаял в воздухе, а неприятностей для института, всей этой шумихи, допросов, партсобраний, клятв и проклятий никто, в общем-то, и не хотел. Главное, что он исчез, куда, зачем – они даже не знали, много кто вот так исчезал, а то, что он лежит в своей комнате, на кровати, в двух шагах от прежнего места работы, никто не знал, не догадывался. Его пробовали искать, конечно, но безуспешно, никому и в голову не приходило, что он запер за собой дверь, просто запер, и все, у него росли ногти, волосы, жена стригла его огромными портновскими ножницами, грубо, безжалостно, вообще он для нее вдруг превратился в пациента, а она в медсестру, никаких других чувств она к нему не испытывала, а он просто читал, ходил по нужде, ждал своих котлет, и так продолжалось целый год, и вот однажды утром ее просто спросили на работе, а она работала в том же институте: а где Иван Иванович, что-то мы его давно не видели, и она прилетела домой сияющая, обняла и поцеловала, хотела сразу отдаться, но не смогла преодолеть в себе это чувство, что он живой труп, в пижаме, и просто закричала: все кончилось, Ваня!
И на следующее утро он просто вышел на работу как ни в чем не бывало.
Даниил Владимирович слушал эту историю в пятьдесят восьмом году, в большой компании, за столом (говорили, конечно, в третьем лице – «он», «у него»), и тихо улыбался. И ничего не говорил про себя. Никак не комментировал.
Когда в тридцать первом году они сюда, в Москву, переезжали, и он выбирал квартиру от наркомата, вариантов было несколько, несколько смотровых ордеров. Некоторые были совершенно прекрасные – так, например, он запомнил дом в глубине двора в районе Собачьей площадки, у Новинского бульвара, среди чудесных старых особняков. Несмотря на большое движение, тут был настоящий отличный московский район, зеленый, тенистый, уютный, правда напротив намечалось какое-то грандиозное строение, позже он узнал, что это новое американское посольство. Они вошли в подъезд, и он, волнуясь позвонил в дверь, вместе с управдомом, они вошли, покрутились на кухне, посмотрели полагающиеся им две комнаты, очень большие, отсюда в консерваторию можно было ходить просто пешком, как бы гуляя, и вдруг Надя сказала, закашлявшись, Даня, очень низкие потолки, давят, он покраснел, сказал, что не здесь и не сейчас, они долго ругались во дворе, он даже крикнул что-то не очень хорошее про мещанские пережитки, но потом плюнул, и поехали в Вышеславцев. Здесь она сразу обмякла, когда увидела эти плодовые деревья, этот высокий забор, участок. Через забор стояла синагога, унылое, мрачное обветшалое здание, его это сильно смущало, но он почему-то сразу понял, что она отсюда не уйдет, она ходила по саду, трогала деревья, мельком осмотрела кухню и ванную, познакомилась с соседкой, бывшей хозяйкой, которая смотрела страшными, безумными буквально глазами, но ее это не смущало тоже, она блаженно улыбалась и только спросила: можно, я возьму одно яблоко?
Здесь, в Вышеславцевом переулке, родилась их настоящая жизнь, дом 5, квартира 2, Каневские, три звонка. Летом в окнах стоял сплошной шелест листьев, солнце сквозь листья, волшебный свет в прорезях веток, шевелящийся свет в окне, прохлада даже днем, в жару. Вот тут он и понял ее по-настоящему, ее истовое, невероятное служение детям, она и сама, конечно, хотела спрятаться от города, от волнения, от этой сияющей эпохи в своем яблоневом саду – но главное, что она хотела спрятать детей. Марьина Роща оказалась абсолютно еврейским районом Москвы, маленькая Одесса, еврейские дети ходили в школу, их водили за руку в поликлинику лечить гланды и дергать зубы, привычные голоса еврейских мамаш раздавались тут и там, она ничего этого не знала и даже не догадывалась, когда выбирала квартиру. Дело было не в синагоге, в нее захаживали только старики и то не каждую субботу, раввин был ленивый, слабый, он видел исчезающую паству и спокойно читал книгу, но иногда к раввину приходили нищие, странники, посланцы из тех мест, где в синагогах и йешивах были толпы страждущих, из далеких украинских сел, где время остановилось, и они приходили к нему, чтобы понять, куда оно девалось, время, почему так безжизненно отсчитывает свои минуты их старое еврейское время. Надя ходила на Минаевский рынок, вечно пугаясь бандитов и бесстрашно подкармливая нищих, она как будто сама наполнялась светом в этом яблоневом саду, и он все больше и больше погружался в ее мир, который открылся ему впервые тогда, в 1918 году на одесском Ланжероне, когда он увидел бедную, насмерть запуганную, почти падающую от голодного обморока, но улыбающуюся девочку. Ее жертвенность была почти невыносима, она рожала детей, плакала, и он держал на своих плечах эту ношу, потому что ощущение ноши было ему необходимо, страшно необходимо, своя ноша не тянет, так ведь говорится, это был его мир, созданный им. Но только здесь, в Малаховке, стоя на пороге пустой комнаты, в глубине которой светились глаза Варвары Петровны, он вдруг окончательно понял, что любит Надю.