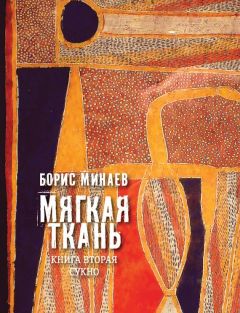Нет, покачал головой Иванов, об этом не знаю. Не помню такого случая. Ничем не могу помочь. Да и зачем это вам?
Ну как же так, расстроился доктор. Ну как же так. Я думал, вы знаете. Это же очень интересно. Во-первых, тут упоминается некий доктор Сорокин, мой коллега, военный врач, с которым я, при других обстоятельствах, мог бы даже оперировать в одной палатке на фронте, а может быть, и оперировал, мне всегда хотелось его понять, его мотивы, это же просто удивительно – доктор, военный врач, а с чего вы взяли, что это именно военный врач, резко спросил Иванов, но доктор не ответил, во-вторых, конечно, сама эта так называемая проскуровская резня, она была очень показательна и симптоматична, как может быть показателен медицинский случай, патология, которая развилась до невероятной степени, а чем же, чем же, скажите, вдруг заинтересовался Иванов, чем же вам интересен именно этот погром, всего лишь один из многих, именно проскуровский?
Дело в том, сказал доктор Весленский, обращаясь к Ивану Ивановичу, что проскуровский погром начинался не так, как обычно, верней, наоборот, он как раз начался обычно, с бунта двух петлюровских войсковых частей, которые переметнулись на сторону большевиков, ну что же вы, доктор, ласково развел руками Иван Иванович, ну что же вы так, переметнулись… на сторону большевиков, перешли на сторону Красной армии, на сторону, так сказать, мирового пролетариата и, я бы даже сказал, на сторону добра, ну да, на сторону добра, так вот, они перешли на сторону добра, но как-то не очень активно, потому что восстание удалось быстро подавить, зачинщиков расстрелять, и вот тогда, изволите видеть, действительно началось необычное что-то. Дело в том, что вообще-то о погроме сговариваются тихо, ибо люди, идущие на преступление, они знают, что именно идут совершать преступление, что они будут грабить, убивать, насиловать других людей, а здесь все было по-другому. Я запомнил имя, был такой атаман запорожской казацкой бригады по фамилии Самосенко, и вот, когда офицеры полка вместе с ним в привокзальном ресторане (это была крупная железнодорожная станция, как вы знаете) отмечали успешное подавление большевистского восстания, он встал со своего места и предложил, или как сказать по-другому, призвал вырезать и уничтожить всех евреев в городе до единого, не тронув, однако, их имущества. Это произошло 17 февраля, стоял сильный мороз, все офицеры, пережив, конечно, в этот день немало страха, потеряв, может быть, каких-то своих людей и находясь в некоторой эйфории от того, что им удалось отразить «удар в спину», так вот, они крепко выпили в том вокзальном ресторане, а был мороз, я полагаю, такой вот крепкий морозец, ясное небо, двенадцать часов дня, и они были, повторяю, в эйфории, с раскрасневшимися от выпитого щеками, усатые, краснолицые, и этот призыв своего атамана они, образованные люди, ну, может, не все, но многие из них были образованными людьми… Я думаю, что сначала он их поразил, этот призыв, ведь погромы, грабежи, мародерство, насилие над женщинами – они знали, конечно, что это есть и что это всегда будет во всякой воюющей армии, но это стыдно, это грязно, это дело солдатни. А тут вдруг такое они услышали от своего командира, и восприняли они это вдруг, неожиданно, с криками «ура» и необычайной такой, знаете, религиозной радостью, потому что им вдруг показалось, что, убив этих несчастных, жалких евреев, они очистят весь род людской. Понимаете, ведь их призывали не грабить, а именно мстить за предательство, как рыцарей какого-то ордена, да, они думали, что они рыцари, средневековые крестоносцы, они отомстят за бога нашего, они огнем и мечом выжгут это предательство, понимаете.
И вот слушайте, вы хотели меня выслушать, подождите, дайте я договорю, и вот все гайдамаки, весь гайдамацкий полк, вы можете себе это представить, построившись в ряды, в полном боевом снаряжении, с оркестром и особым санитарным отрядом, понимаете, да? – чтобы убирать кровь, добивать тех, кто особо мучается, относить трупы, с особым, значит, санитарным отрядом отправились на свое «святое дело». Но нет, постойте, подождите, сначала они, вот это важно, произнесли клятву, и эта клятва была произнесена перед полковым знаменем, в чем же клятва, а вот в чем – что, выполняя свой священный долг перед богом и родиной, они клянутся вырезать и уничтожить всех евреев в городе до единого, не тронув, однако, их имущества. Имущество они, конечно, потом тронули, и еще как, но дело не в этом, они поклялись уничтожать евреев только холодным оружием, чтобы, во-первых, не было шума, ну и во-вторых, им казалось, что, убивая шашкой, или штыком, или кинжалом невооруженных людей, они действуют, как те самые «рыцари», и вот они, эти гайдамаки, спокойно и не торопясь переходили из дома в дом, резали, кололи и рубили всех находившихся там без разбора, и вот тогда врач Сорокин, очевидно бывший как раз во главе «особого санитарного отряда» и, возможно, сам добивавший раненых евреев, избавлявший их, так сказать, от лишних мучений, а я хочу напомнить, что все они были в форме, в своей красивой гайдамацкой форме украинской республики, и кровь стекала у них по рукавам, по груди, по лампасам и сапогам, так вот, этот врач Сорокин увидел в одном доме, где уже были зарублены все до одного – и старики, и малые дети, может быть, кто-то еще оставался, дом был большой, богатый, там жила большая семья, может быть, две семьи, он увидел казаков, сгрудившихся в углу и стоящих в каких-то странных, растерянных позах. Он подошел и растолкал их, то есть он преодолел этот заколдованный круг, который образовали казаки, и увидел девушку, лет примерно восемнадцати, она стояла перед ними, прижавшись к стене, и от ужаса почти не могла дышать, и вот Сорокин, тут была какая-то заминка, какая-то пауза, Сорокин никак не мог понять, в чем она заключается, в чем ее причина, этой паузы, и вдруг, приглядевшись, он все понял: в этой еврейке была какая-то такая «дьявольская», как он позднее скажет, красота, что на нее никто не мог поднять руку.
Да, я знаю эту историю, я вспомнил, глухо сказал Иванов, но там не совсем все так, как вы рассказываете.
Может быть, сухо сказал доктор, но я все же продолжу.
Так вот, я думаю, что красота ее была как раз не дьявольская, а скорее ангельская, но остановило их все же не просто, извините, эстетическое чувство, нет… Тут было другое, она стояла, эта самая Сарра, так ее звали, она стояла прямо глядя им в глаза, не пытаясь вымолить прощение, ей было трудно дышать, но она не плакала, не отворачивалась, не молилась, не падала на колени, ничего не делала, просто стояла прямо и смотрела им в глаза, потому что, всего-навсего, ей не хотелось в эти минуты выглядеть некрасиво, плохо, жалко, уныло, не хотелось выть и кричать, и, может быть, сказалось какое-то ее врожденное благородство, какая-то, знаете, порода, то есть когда ты сам не знаешь, почему поступаешь именно так, но ты поступаешь именно так. Она смотрела на них молча, и вдруг что-то такое произошло, понимаете, никто из них не мог поднять на ее руку, никто не осмеливался даже пошевелиться, они стояли и смотрели на нее, молча, в мертвой тишине, но сначала доктор Сорокин думал, по своей мужской природе, что они хотят ее изнасиловать, воспользоваться, что убивать ее им просто жалко, что они хотят прервать это бесконечное убийство ради вот такого, знаете ли, «отдыха», вот их цель. Но потом он понял, что это не так, потому что они молчали, глухо, напряженно, и в их молчании ему почудилось что-то вдруг угрожающее, что-то страшное. Они смотрели на нее не отрываясь, на эти тонкие, нежные черты, на бледное ее лицо с огромными глазами, на руки, прижатые к груди, эта смертельная молчаливая красота потрясла их, даже их, этих убийц, этих людей с окровавленными клинками в руках, так бывает. И с каждой секундой, с каждой секундой, вы понимаете, Иван Иванович, они все больше осознавали все то, что произошло, им становилось все страшнее и страшнее, кровь отхлынула от их лиц, уже многие отворачивались, тяжело дыша, вот это возбуждение кровью, оно быстро проходило, оно уступало место чему-то совсем другому, как будто они заглянули в глаза самому господу богу, как будто он явился им в образе этой самой Сарры. И тогда доктор Сорокин понял, что должен что-то сделать. Он достал шашку и зарубил ее быстро и беспощадно.
– О господи, Алексей Федорович, – сказал сочувственно Иванов, – ну зачем вы себя так мучаете? Ведь ваша жена умерла в своей постели. Не во время еврейского погрома. Да, очень жаль, она была молода и прекрасна, я все понимаю, но ведь шашкой ее никто не рубил. И потом… Ну откуда вы взяли такие детали? Зачем этот мелодраматизм?
– Дело вовсе не в мелодраматизме, – быстро ответил доктор. – Я, может быть, не совсем ясно выразил свою мысль. Видите ли, все эти люди, только что убивавшие других людей, почему они не решались поднять руку на Сарру, не могли убить ее, или изнасиловать вдесятером, как тогда было принято даже в отношении семидесятилетних старух, десятилетних девочек, даже шестилетних, таких случаев была масса. Но вот с ней они не смогли так поступить, хотя она была невероятно красива и молода. В чем тут дело? А дело в том, Иван Иванович, что им в этот момент довелось увидеть себя как бы со стороны, поглядеть на себя, бог показал им, что они делают, и вот тут вся их, как им казалось, возвышенная, высокая, нравственная идея рассыпалась вдруг в один миг, вывернулась наизнанку, потому что эта самая девушка, вот эта Сарра, была не просто человеческим материалом, разновидностью человеческого существа, биологическим объектом, красивым животным или чем-то в этом роде, она была не обычной жертвой насилия, не обычной еврейкой, она была божьим созданием, в котором была беспредметная, нерациональная, мистическая сила, более могущественная, чем само это зло, чем это зверство средневековое, которое в них проснулось, и они отступились… То есть эта сила, понимаете, – сказал доктор, – она все-таки есть. Вот что я хочу сказать.