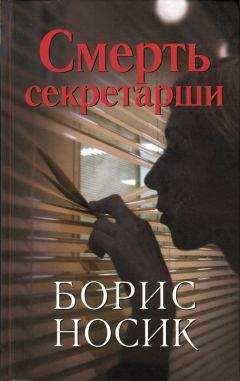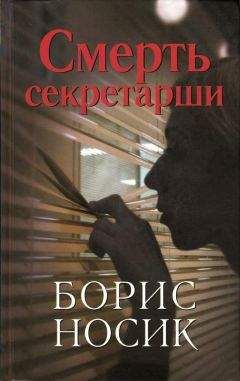Гена ушел. Он сидел в вестибюле добрых два часа, провожал невидящим, недоверчивым взглядом пишущее шобло. Потом решил, что должен во что бы то ни стало узнать, кто был у нее вчера. Его память, обостренная подозрительностью, извлекала сейчас на поверхность множество противоречивых подробностей, которые ничего не значили для него раньше, а сейчас обретали зловещий смысл и терзали его нещадно. Например, сегодня, когда она небрежно чмокнула его в щеку, у нее на груди блеснула тоненькая цепочка от очков, не наша, конечно, заморская цепочка, недорогое, но очень удобное украшение – не надо искать очки на столе, под бумагами, всюду, да и красиво тоже… Откуда цепочка? Еще новая ручка, вставленная в чехольчик, а чехольчик висит на шее на красивом шнурочке. Конечно, Рита любила все эти ненаши красивые штучки (Гена и сам ей приносил их во множестве), но сейчас – откуда дровишки? Больше всего этой дряни могло быть, конечно, у Юры Чухина, нашего странника, нашего дипломата. Значит, он? А почему бы и нет?
Гена справился со своим волнением, достал из сейфа пачку фотографий и ткнулся в кабинет к Юре, где пустовал второй стол – стол Евгеньева.
– Юр, можно я у тебя разберу фотографии? За Владовым столом? А то приткнуться негде.
– Давай, старик, давай. Где странствовал?
– В Средней Азии.
– Как же! Как же! Бешбармак, шашлык, виноград, плов… Что ж… Я тут наберу кое-кому, а ты занимайся.
«Спокойно, спокойно», – уговаривал Гена свое непослушное сердце.
Он без смысла перебирал фотографии, раскладывал их стопками, а потом его осенило, точнее, даже раньше, чем пришла эта хитроумная мысль, сама собой пришла мелодия, и он засвистал тихонечко, совсем тихо – Риточкин любимый Дассен, «эси тю нэгзистэ па», «если бы тебя не было на свете, то зачем бы я жил?», чтоб я так жил…
Гена бросил украдкой взгляд на Юру, и был поражен, сражен успехом своей выдумки: Юра замер, как будто он забыл номер или вообще забыл, что собирался звонить. Забыл про Гену, а может, и забыл, где он сейчас. По лицу его прошло воспоминание о пережитом удовольствии. Это было не воспоминание даже, а явственный отблеск переживания, может, даже само переживание, само удовольствие, пережитое заново, на мгновение, может, и более слабое, конечно, чем тогда, в реальности…
Гена был молод, он не был ни особенно умен, ни слишком образован, ни даже особенно талантлив, и все-таки он был фотограф, а портрет был его специальностью. И он был сейчас потрясен, подглядев на тривиальной, со стертыми чертами физиономии Юры Чухина это . Именно это .
Юра не заметил даже, что Гена наблюдал за ним, однако, почувствовав что-то новое в воздухе, спросил:
– Знакомая мелодия, да, старик?
А еще через секунду он уже понял свою оплошность, он взял себя в руки и повторил с совсем другой интонацией, снисходительно и небрежно:
– Знакомая мелодия, как же, как же, бедняга Дассен.
Мало ли откуда может быть знакома человеку такая мелодия, она и всем знакома. Бедняга Дассен, бедняга фотограф…
– Спасибо, старик, за приют, – сказал Гена. – Я побежал.
Он действительно бежал, точно уходил от погони, и не знал, куда бежит. Он спускался в лифте, проходил по коридорам все с той же ненужной пачкой фотографий в руках, сидел за столиком в дальнем буфете, маялся в чужой лаборатории, куда-то звонил, назначал свидания на вечер. Потом ноги сами вынесли его к приемной шефа, и он с ходу распахнул дверь: Риточка толковала о чем-то вполголоса с Евгеньевым. Когда открылась дверь, они замолчали, глядя на Гену. Евгеньев встал. Вышел, помахивая комментарием.
Риточка сидела съежившись, молча. Она была в серой французской рубашечке, которую носила уже много лет. Дурацкие цепочки и шнурочки – от очков, от ручки, от кулона, от часиков – нелепо путались у нее на груди.
– Придешь сегодня? – спросила она.
Ему хотелось сказать «да», и слабость тут же подсказала ему оправдание – он придет, чтобы объясниться, чтобы выяснить все до конца, чтобы внести ясность. Но ему все было ясно, он уже знал всю мучительную правду, и он сказал, пересилив себя, задавленным, едва слышным голосом:
– Зачем? Чтобы еще наткнуться на кого-нибудь?
Она молчала – совсем маленькая, в серой ношеной рубашонке, и ему стало ее очень жалко. Пришлось вспомнить свою обиду и боль, чтобы справиться с этой бессмысленной, унизительной жалостью. Он молчал, вспоминая, и в этом молчании рушилось все, что было между ними, – их доверительность, их нужда друг в друге, их уговор, их сговор…
Вошел Колебакин, торжественно пожал Генину руку:
– Как съездил, друг Геннадий?
– Прекрасно, – сказал Гена и, задохнувшись, торопливо вышел… На улице он на время почувствовал облегчение, однако, добравшись наконец к себе, в Орехово-Борисово, и бросившись на софу, он понял, что вся его мука, вся агония только начинаются.
Итак, это хамло Чухин с его цепочками, шнурочками, крошечными штанишками для малоимущих секретарш. Еще есть малоподвижный рохля Евгеньев – он ее бывший муж, а может, и нынешний: иначе о чем они там совещались вполголоса и отчего замолчали, как только он, Гена, вошел. Вдруг он резко поднялся с софы – ему пришла в голову жуткая, унизительная мысль – Боже, отчего он сразу не догадался? – они же говорили о нем, о Гене, о том, что вот он вернулся так неожиданно, как снег на голову, и что он ревнует, что он смешон в своей ревности и жалок, они советовались, что ему сказать… Как она смеет говорить о нем с другими? А почему не смеет? Разве это не ее друг, Евгеньев, не ее бывший муж, не ее нынешний Бог знает кто? Он все знает о ней, и она может рассказывать ему самые интимные подробности…
Гена был точно в бреду, в кошмаре, и все же многое вдруг представало сейчас перед ним с пугающей ясностью, очевидностью – точно былой бред закончился и он выздоровел… Он припомнил вдруг, что еще в раннюю пору их знакомства она рассказывала ему, как она отшила того, отшила другого, третьего, как приставал к ней Колебакин, или шофер, или кто-то еще. Это возбуждало Гену, для того-то, наверное, она и рассказывала. Эти рассказы наполняли его гордостью, он чувствовал к ней еще большую нежность, желание поднималось в нем вместе с возмущением против наглых рыл, которые не дают проходу беззащитной девочке… А теперь ему вдруг пришло в голову, что она, может, вовсе и не дерзила Колебакину (трудно ведь и представить, как она могла это сделать), не отшивала его; Гена ж сам видел на ее полке колебакинскую книгу с дурацкой надписью – что-то про то, что она больше, чем друг, и все в том же духе, а ведь если отшивают, то уж не становятся больше, чем друг, вообще никем не становятся…
Воспоминания мучили его: бесчисленные подробности их интимных отношений – ее гримаски, жесты, звуки, словечки, ласковые прозвища, самые интимные ласки. И все оборачивалось сейчас против него, потому что то же самое могло быть, да что там, конечно же, было у нее с другими – и не далее чем вчера… Гена отлично знал, как это все бывало, как оно должно было быть, и музыка, и свет – так ясно себе все представлял…
Он пролежал дотемна, не в силах ни уснуть, ни занять свои мысли чем-нибудь посторонним. Хотел было заняться квартирой, но самая квартира, вся московская жизнь показались ему вдруг лишенными всякого смысла и привлекательности. Он оделся и поехал в Домжур. Там было много знакомых, все были свои, «старики», они много и беспорядочно пили, вспоминали какие-то случаи, шел обычный треп, его звали поехать куда-то в компанию, он отказался, а потом жалел. Жалел вообще, что поехал в Домжур, где одни мужики, а не пошел в ВТО.
За полчаса до закрытия дома на него, полупьяного, наткнулась Лариса, которая только что, сегодня, вернулась из командировки: она была до краев полна дорожными впечатлениями, своими дурацкими газетными задумками, своими рассказами про парней с БАМа, которые звали ее «наша Лара», про какой-то скандал с начальством, где она выступала за правду и всем все доказала…
Гена плохо ее слушал – он давно уже приучил себя слушать всю эту журналистскую хуйню вполуха – просто он рад был, что она хоть что-нибудь говорит, и время от времени треплет его по волосам, и касается его чем-то теплым и человеческим, и пахнет духами, а не просто дышит ему в лицо мужским перегаром, бормоча: «Старичок, вот ты мне скажи, старичок…» Они вместе вышли из Домжура и нежно простились, но она и после этого упорно шла за ним к машине, может, оттого, что тоже, как он, боялась остаться одна – предстояла долгая городская ночь, Боже, какая пустота в мире…
– Я говорю шефу: «Везу ударный материал – умерла последняя мать неизвестного солдата…» А он мне: «Если солдат неизвестен, то как известно, что она его мать?» Дубина. Амбал. Я ему говорю – не важно, это публицистика, молодежь забывает про войну…
– А ты помнишь? – спросил Гена, разогревая мотор.
– Ты что, Ген! – Она боднула его грудью, загоняя в угол машины. – Ты что? Я моложе тебя. Я Ритки моложе на два года… Какую такую войну? Мы новое поколение, Ген. Отец в МИДе, они с матерью все время ездили, а у меня с пятнадцати лет хата. Сексуальная революция. Наше поколение, Ген. У меня сразу два любовника было, художники, мы так и жили втроем.