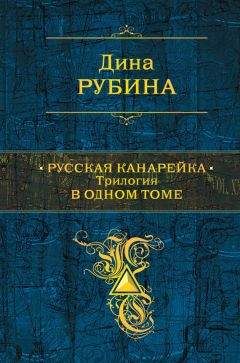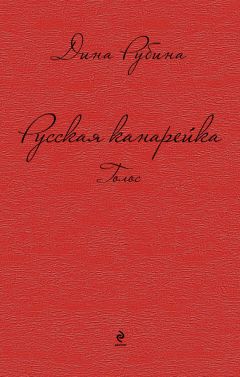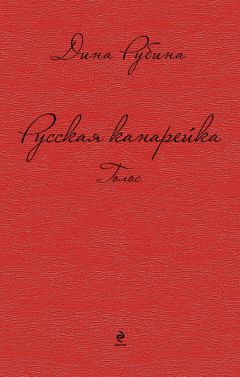Кстати, по башке-то Лиде она шарахнула именно языком – говяжьим, тяжелым и скользким, как мокрый булыжник.
– «Рахиля, шоб вы сдохли, вы мне нравитесь!..»
А на Владку напал неудержимый хохот, и сквозь икоту она выкрикивала:
– Да он афганец, можете понять?! Герой-афганец, за Родину погиб!!! Гремели пулеметы, пушки били! Граната взорвалась – его убили! На радость всем врагам, на горе мне!
…и хохотала, хохотала, пока дядя Юра не подхватил ее вместе с давно орущим младенцем и не поволок в туалет – мыть рыжую физию холодной водой. И убеждал ее там, и горячо твердил в жалкое мокрое лицо, истекающее черной тушью собственного производства:
– Владка, ты – мадонна! Не слушай ни единую блядь: ты – мадонна!
И знаете что: ведь он прав. Если спокойно и здраво осмыслить историю с этим нелепым знакомством и юннатским соитием на пляже – без малейшей греховной страсти со стороны, так сказать, принимающей, – надо согласиться, что для Владки это был учебный эксперимент, бесстрастный опыт, зачатие непорочное.
Разве что понесла она не от Святого Духа и принесла не Спасителя.
Ой, не Спасителя…
* * *
Вот опять надо описывать чье-то детство… Опять надо его любить – нового человека, рожденного из пены потока, что несет нас, нещадно колотя о берега повествования, не давая времени ни вздохнуть, ни отряхнуться.
А ведь надо его любить, деться-то некуда, сердце не каменное: как повозишься с его загаженными пеленками; да прислушаешься, постепенно привыкая, к странно звенящему голоску, задающему вопросы двум уже глубоким старухам и до оторопи легкомысленной женщине; как поймаешь себя на том, что торопишься скомкать проходную сцену, ибо ждешь не дождешься топота ножек по коридору коммуналки; да как обомлеешь от песенки, спетой им на детсадовском утреннике так чисто, с такой молящей ангельской интонацией, что вся выстроенная для него благополучная биография покатится куда-то к чертям собачьим…
…Что касается песенки про нашу елочку, что срубили под самый корешок, главным образом от нее обомлела Стеша, медведицей сидевшая на детском стульчике среди прочих мам-пап. Удивить ее голосовой благодатью было трудно – все же выросла и жила среди таких-то голосищ, – а поразило вот что: это как же он, малёк такой, дома всё молчал?! Как же он свою самость-то драгоценную-горловую-сердечную прятал-укрывал! С чего это и почему решил так ее охранять, что ни бабка, ни мать, ни вострая Барышня ничего не ущучили… Вот те и малёк!
И по пути домой, когда, тяжело переваливаясь с одной слоновьей ноги на другую, она вела правнука, сжимая его цыплячью лапку в своей рабочей разбитой ладони, сердечно уговаривая повторить дома для Барышни и Владки «концерт», он даже не отвечал, засранец: глядел по сторонам, будто не с ним говорили.
И дома точно так же молчал, словно не о нем она рассказывала, а о каком-то постороннем диве.
…Странно, что этот «малёк» чуть не с рождения строго различал – где, с кем и как себя вести, всегда поступая так, а не этак, в зависимости от обстановки, будто понятия «место» и «время» были изобретены нарочно для него или родились вместе с ним.
На музыкальных занятиях в детском саду петь полагалось, там ему петь хотелось. И он пел.
Он и вообще был страшно чувствителен к окружению и ситуациям, в которые попадал, и когда ему не нравились обстановка или люди, решительно действовал по своему усмотрению. Мог удрать и прибежать домой один, потрясая старух своей самостоятельностью. Дорогу запоминал, как кошка, – откуда угодно; номера трамвая или троллейбуса различал по очертаниям (ибо читать и считать в то время еще не умел). Мог прилюдно устроить такой тарарам, что Владка подхватывалась и из гостей, или с выставки, или даже из кинозала убегала с плачем, волоча сына по ступеням, потряхивая его и со злостью выкрикивая:
– Дрянь гремучая! Падла злючая! Рожа мрачная! Жизнь бардачная!
Позже, когда вполне осознал силу своих голосовых связок, мог взять и держать ноту такого сверлящего накала, будто где-то высоко врубили небесную дрель, и тогда уже не выдерживал никто в радиусе с полкилометра.
– Да спой же, мамынька, спой еще про елочку, шо ты говнишься! – умоляла Стеша, ибо ей обе не верили. Барышня парила крошечные ножки в тазу до прихода взыскательной педикюрши Сони – та всегда торопилась и с порога требовала «ни минуточки не терять!». А Владка шлифовала личность перед зеркальцем, боком присев на подоконник и болтая дивной ногой.
– Что за дела чудные, – бормотала Барышня, подливая в таз кипятку из чайника. – Дитя закукарекало?
– Ну, давай, Лео, – вставила полунакрашенная Владка с одним махрово-прицельным, а другим пока еще домашним и пушистым глазом. – Сделай им тут Робертино Лоретти!
И губы вытянула под карандаш «анютиными глазками», так что вышло – «Лоберсино Лоресси»…
Леон не отвечал, копаясь в своем картонном ящике, задвинутом под ломберный столик.
Кстати, интересно бы и нам заглянуть в этот ящик.
Ничего похожего на мальчишеские свалки машинок, рассыпанных частей пяти разномастных конструкторов, ослепшего калейдоскопа и разрозненных солдатиков – всего того, что хранят мальчики в своем заповедном углу, – там не водилось. Леон всегда собирал что-то из жизни, для каких-то своих таинственных планов, о которых никому не докладывал. Это было странное собрание ни к чему не пригодных одиноких вещей «с характером». Например, он уволок у Барышни круглую шляпную коробку, где съёженной мышкой в уголку валялась черная вуалетка и от стенки к стенке ездил одноногий театральный лорнет с тремя отпавшими и грубо приклеенными пластинами тусклого перламутра. Еще там обитал старый серебряный наперсток, годный на чей-то толстый палец: Леон самолично выковырял его из щели в паркете, и не иначе, как великая Полина Эрнестовна уронила его лет семьдесят назад, в незабвенную эпоху сотворения «венского гардероба».
Если по воскресеньям кто-то из соседей брал его на Староконный, Леон всегда тратил там свой «кербл», пожалованный Бабой или Барышней, на старые, кустарно раскрашенные открытки или даже старые фотографии совершенно чужих, ни к селу ни к городу людей, в чьи лица вглядывался так же внимательно и подолгу, как в лицо Большого Этингера или в растерянное, под паклей рыжего парика личико Леонор Эсперансы Робледо.
И страшно любил эти свои «картинки»; сортировал их, перекладывал из одной папиросной коробки в другую. Главными среди них были: «Одесский портъ. Поклонъ изъ Одессы» – картонка, подкрашенная вручную штрихами красного и зеленого карандаша, – и чернобелая «Одесса въ снѣгу», где несколько дворников с метлами откапывали занесенную снегом театральную тумбу.
У дяди Юры он выклянчил три синих пузырька «из древней аптеки», у Любочки – одну серьгу с висюльками из синего бисера (вторая была потеряна в 1904 году в Киеве, в приемной у гинеколога).
На вопросы, что́ со всем этим барахлом он намерен делать, Леон отвечал, что станет директором Музея Времени, и каждый сможет прийти и посмотреть, как люди раньше жили. Но разговор поддерживал, только если видел, что собеседник и вправду заинтригован. Чаще никак не отзывался на вопросы и попытки гостей «подружиться».
Владка считала, что у сына уж-ж-жасно тяжелый характер, и однажды – ему было лет пять – даже повела его к знакомой тетке-психологине.
Но консультацию вряд ли можно было назвать удачной: все полчаса мальчик молчал, как немой, закрашивать картинки не пожелал, отвечать на вкрадчивые вопросы о том, кого он любит – не любит, и не думал.
– Ну почему, почему ты так вредничал, Лео?! – волоча его за руку по бульвару, вопила Владка. Он спокойно ответил:
– Не дергай мне руку, оторвешь. – И, помолчав: – Она очень глупая женщина. С такими говорить нельзя.
Чуть ли не с младенчества он четко разграничивал по ролям свое женское семейство и с каждой вел себя по-разному.
К Стеше, которую, как и Владка, звал «Бабой», относился снисходительно, с обескураживающей прямотой. «Лепит, что хочет, – отмечала та не без гордости, – все думки выкладывает!» Искренне считала, что может угадать все его мысли. Но ошибалась. Никто не знал, о чем этот ребенок думает.
Мать обожал, хотя и совершенно игнорировал ее мнения, требования, вопли и даже слезные просьбы. Но когда зимой та растянулась во дворе и вывихнула ногу, плакал от жалости и просидел с ней всю ночь, держа на своих тощих коленках обмотанную бинтами и полотенцем кувалду ее ноги, ни за что не соглашаясь пойти спать. Вообще, был привязан к матери как-то иначе, нежели обычные дети. Всегда был равнодушен к ее байкам, вспыхивающим с такой ослепительной силой изображения, что все вокруг замирали и молча выслушивали всю эту чушь до победного финала. Все, только не Леон и не Барышня.