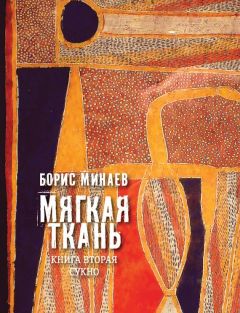Но тогда где же острое чувство голода?
Она подошла к зеркалу. На нее смотрела испуганная девочка с ввалившимися глазами. Ее было жалко.
Да нет. Все она прекрасно помнила.
Завтракала какими-то рыбными консервами, доставала вилкой прямо из банки, кипятила чай. Одевала вот это. И вот это. Ботинки все в грязи, то есть шла куда глаза глядят. Вечером принимала душ. Колонка пока еще работает.
Но куда ей идти сейчас?
Она не знала.
Нина Каневская все эти два дня (17 и 18) ходила по городу размеренными медленными шагами, пытаясь понять, что же ей делать, наблюдая эту новую, невероятную жизнь Москвы, которая открывалась ей все больше и больше, шагала от улице к улице, сворачивала в глухие порой переулки, заходила во дворы, отдыхала на вымерзших лавочках, подкладывая под себя все те же листы исписанной бумаги, которые все так же носились по городу, иногда с отвращением читала их, отдыхала возле закрытых пивных и табачных ларьков, опираясь на них плечом, с испугом слушая раздававшиеся то тут, то там выстрелы.
Стреляли милиционеры, пытаясь разогнать грабителей, стреляли и грабители, пытаясь отогнать милиционеров, но дело было даже не в этом, не в мародерстве и в попытках остановить панику. На вокзалах военные патрули отлавливали «расхитителей народного добра», и хотя в эти дни из Москвы вытекло невероятное количество денег, драгоценностей, ценных вещей, картин, дорогой мануфактуры и прочего, процесс эвакуации все-таки удалось наладить и взять под контроль невероятными усилиями городской военной комендатуры и приданных ей частей армии и милиции. В городе были вывезены тонны неучтенного продовольствия из магазинов и ведомственных складов, но все-таки основные продовольственные склады не дали разграбить, окружив их солдатами и пулеметными расчетами. Тогда в Москве десятки раз возникала тяжелая, густая, адская паника, когда люди просто бежали от какого-то места, напуганные нелепыми слухами о подрывах мостов через Москва-реку и приближающихся немецких танках, порой затаптывая друг друга и даже прыгая в смертельно холодную воду. Однако наступления не было, и буквально несколько профессиональных паникеров, признанные диверсантами и лазутчиками (и расстрелянные на месте), вовсе не были посланцами немецкого наступления. Наступление было отложено, а немецкие танки встали на техосмотр.
Однако люди продолжали уходить из Москвы.
Пустая, оставленная Москва – вот что было невероятно. Город как будто раскрылся навстречу смерти или новой жизни, и это чувствовалось во всем. Эти пустые, оставленные людьми дома в каком-то смысле были прекрасны. Они стояли, горько и укоризненно глядя в небо глазницами окон, заклеенных наспех желтой газетной бумагой. Нина заходила в подъезд и останавливалась, слушая звенящую тишину. Иногда в подъезде обнаруживались одна или две квартиры с людьми, которые не желали или не могли уехать, она в буквальном смысле слова нажимала на звонки дверей, и иногда вдруг откликалась старуха или маленькая девочка, которым тоже было страшно и которые с радостью принимали Нину за свою, угощали чаем, хлебом, остатками еды, чем могли…
Но Нина не очень хотела есть, она была настолько потрясена всем этим, что хотела идти дальше. Вечерами в пустых кинотеатрах, где уже не было никаких людей, киномехаников, картин, вообще никакой жизни, вдруг обнаруживалась случайно незапертая дверь, и Нина заходила внутрь и сидела в холодных огромных залах перед пустым экраном.
Впрочем, некоторые кинотеатры работали, и их залы были переполнены.
Над крышами кружились брошенные голуби.
Собаки бродили по улицам, кошки метались по подворотням. От этого невозможно было оторваться. Москва превратилась в зачарованное место, где можно было пропасть, однажды войдя в подворотню. Но Нина не пропала.
На второй день она поняла, что больше всего опустела Москва в самом центре, прямо вокруг Красной площади – Якиманка и Дом на набережной, Ордынка и Пятницкая, Зарядье и Неглинка, – там было совсем тревожно, даже иногда страшно. Но если отойти на значительное расстояние к заставам, все оказывалось по-другому – в бедных рабочих районах по-прежнему теплилась нормальная жизнь, в двухэтажных бараках от дровяных печей и из самодельных бань поднимался совсем другой, не пожарный дым – это был сладкий запах дома, люди были тревожны, но спокойны, мужчины по утрам все так же набивались в трамваи и уезжали куда-то, женщины стирали и готовили, дети бегали по жухлой траве. Как зачарованная, Нина следила за всем этим, и когда однажды ее спросили: «Девочка, а ты чья?» – она устыдилась и пошла домой.
Но такие дворы нужно было еще найти…
В этот день, девятнадцатого октября, она поняла, что больше не может быть соглядатаем. Ей нужно было кого-то наконец найти, где-то остановиться. Проще всего было пойти на завод, вдруг там кто-нибудь есть, ну хоть что-то должно быть открыто, кого-то можно встретить у проходной, наверное, они по-прежнему собираются там в надежде получить выходное пособие, по крайней мере, она увидит знакомое лицо, а то совсем одичала. Даже простой человеческий разговор может вернуть ее к жизни.
Путь на протезный завод она знала почти наизусть. И хотя трамваи по-прежнему ездили тихо-тихо, почти незаметно, хоть куда-то доехать было можно, а там пешком, ну час, ну два. Она оделась и села на стул в большой комнате. Вставать не хотелось.
Минут десять она пыталась встать, не понимая, что происходит. Последствия шока? Парализовало ноги? Нет, не похоже. Она просто не хочет туда идти, ей скучно видеть это покинутое место, ее тошнит от этих людей, которые думают только о себе. А вдруг там никого нет? А вдруг она проделает двухчасовой путь в это противное, жуткое место и никого не найдет?
Прошло еще некоторое время, и она вдруг поняла, что вообще не хочет никуда записываться, никого ни о чем просить, подчиняться общим правилам, соблюдать порядок, жить по закону, – все это ей было неинтересно.
Порядок для нее кончился в тот день, когда те два человека увели маму.
И вот теперь этот порядок рухнул окончательно. Так что ж? Может быть, так и надо?
«Ну а немцы?» – испугалась она своих собственных мыслей.
Немцы… Немцы…
Жуткое одиночество сдавило ее сердце.
Нигде не было никакого выхода, никакого просвета. Оставалось только бродить по улицам. Там она уже была своя, родная, знакомая. Иногда ей казалось, что она также встречает знакомые лица. Многие, как и она, особенно одинокие женщины, бесцельно бродили в эти дни по улицам, не в силах бросить свой дом.
Она захлопнула за собой дверь, спустилась по гулкой лестнице и повернула к Никитской.
Там стоял смутно знакомый мужчина и ждал ее.
– Нина! – закричал он. – А я забыл номер вашей квартиры, звоню, звоню… Куда все подевались, ты не знаешь?
– Дядя Ян! – она обмякла и упала на него, успев обхватить его могучую шею руками.
В подъезде он подхватил ее на руки и понес. Ноги ослабели.
Она прижималась к его груди, плакала и ощущала вкусный мужской запах – табак, одеколон и вчерашнее спиртное.
«Наверное, коньяк», – успела подумать Нина. И на какую-то секунду отключилась совсем.
На площадке четвертого этажа он поставил ее на ноги, попросил открыть дверь, шумно вошел, шумно потребовал чаю и начал подшучивать.
Ну ты просто принцесса в мраморном дворце, почему в мраморном, крикнула она из кухни, да неважно в каком, главное, что во дворце, странно, что у вас еще его не отобрали, да успеют еще, вы не волнуйтесь, в тон ему ответила Нина, да… давно я не был… а я вообще у вас был? – были-были, успокоила она, только правда давно, еще в той жизни, послушай, сказал Ян и вошел в кухню, сел за стол, а что ты собираешься делать в этой?
– Ну вообще-то, – неохотно сказала она, – я работаю на протезном заводе, на револьверном станке.
– Это прекрасное поприще! – громко сказал Ян. – Я восхищаюсь тобой, дорогая! А почему же, в таком случае, ты не на работе?
– Завод закрыли, собираются эвакуировать, – сухо сказала она. – Выходное пособие не выплатили. Дядя Ян, а зачем ты спрашиваешь?
Он полез во внутренний карман.
– Вот.
– Что вот? – спросила она.
Вот это ты должна у меня взять и уехать отсюда немедленно, никогда, сказала она твердо, зачем мне такая куча денег, да и это опасно, в конце концов, неужели вы не понимаете, с такими деньжищами меня точно убьют, зарежут во время первой же ночевки, никто тебя не ограбит, зашьешь в лифчик или в трусы, куда, возмутилась она, послушай, это неважно, ты должна уехать, я хочу на фронт, заорала она, я буду воевать с немцами, да, ты будешь воевать с немцами, когда у тебя будет дом, когда тебя будет кому проводить, когда у тебя будут хоть какие-нибудь документы, пауза, пауза, пауза, послушай, у тебя нет документов, ты незаконно живешь в Москве, ты никто, никто, можешь ты это понять, дальше фронта не пошлют, упрямо рыдала она, Нина, встал он перед ней на колени, я умоляю тебя, возьми деньги, уезжай, Миля, твой отец, уже не вернется, мама… еще неизвестно, что будет с ней, ты… должна… жить, никому я ничего не должна, нет, должна! должна! должна! – она рыдала, тряслась, пила воду, опять пила воду, смотрела в окно, он угрюмо сидел, свесив голову, от него вкусно пахло табаком, одеколоном и вчерашним спиртным, дядя Ян, дрожащим голосом сказала она, так нельзя, зачем вы меня ломаете, я взрослый человек, я решила остаться в Москве, пойти на фронт, я не могу вернуться туда, к тете Жене, я обещала ей, да, я знаю, сказал он, я знаю, как это бывает, когда стыдно, когда невмоготу повернуть назад, но у тебя нет шансов, или к немцам, или в тыл, Москву могут отдать, ну а если не отдадут? – это чудо, понимаешь, чудо, что я здесь, я твой ангел, я посланник божий, вдруг сказал он и улыбнулся, неужели ты не понимаешь, уезжай, пожалуйста, куда я поеду, как, на чем, слушай, хватит, он больно дернул ее за руку, одевайся, бери вещи, я больше не могу ждать. Он был большой, сильный, лихой, красивый, такой красивый, она больше не могла сопротивляться, хорошо, сейчас, сейчас, уже темнело, она собрала чемоданчик, несколько вещей, вязаный свитер с рисунком, фланелевую кофту, пару белых блузок, юбку, рейтузы, трусы, будильник, две книги, везде выключила свет, отключила воду и газ, закрыла дверь на ключ, положила его в карман пальто, вышла на улицу и пошла вместе с Яном. Шли почти полчаса, наконец он увидел то, что искал: где-то в начале Первой Мещанской, на Колхозной площади, собирался обоз, какие-то люди грузили какие-то мешки, она ничего не понимала, почему они, куда ехать, зачем, он коротко поговорил с ними, деньги лежали в чемоданчике, было страшно, может, отдать ему назад, он поцеловал в губы, махнул рукой, и пошел, пошел, пошел, скрываясь в толпе, успел только шепнуть, что в Ярославле купит билет и сядет на поезд, это несложно, с пересадкой, но и это несложно, целуй Женю, передавай привет маме, я тебя люблю. Эти слова стучали у нее в голове, когда садилась на телегу, огромную крестьянскую телегу, когда присматривалась к лошадиным мордам, сильным, дерзким, когда хозяин подошел к ней и внимательно посмотрел в глаза.