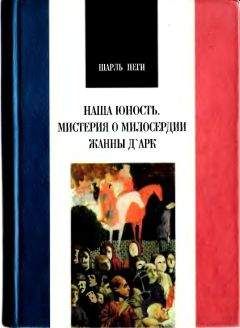Обратно в Юркино надо было идти пешком, по лесной тропе километра три. Между начинающими желтеть березами, орешником, елочками и ольховником я шагал себе впереди троюродной бабушки Ксении Васильевны, темной длинной мешком юбкой, коричневой плюшевой курткой и коричневым же в двойную белую полоску клетчатым платком неотличимо похожей на всех виденных мной в деревне и селе бабушек. Мама шла с сумками где-то позади. Лес протяжно шумел высоким ветром, не мешая мне надеяться увидеть кого-нибудь из зайцев, лис или даже барсуков, которых, по словам родственников, было здесь «страсть сколько». Вместо всей этой живности я увидел торчащий из травы прямо у тропинки длинный с крапчатой беловато-коричневой ногой и нераскрытой красной шляпкой подосиновик. Если и были в ближней округе барсуки и зайцы, явно они перебежали сразу из Смоленской в Тверскую губернию, заслышав мой восторженный вопль. Присев на корточки, я обсматривал со всех сторон вожделенный гриб, такой красивый и даже с паучком на боку. Подошедшая полубегом бабушка Ксения, увидев, что меня не ест волк и не кусает гадюка, что было обычным в тех местах и в те годы делом, сказала: «Ах, ну да, он же хотел грибы посмотреть», продолжая, судя по всему, ведшийся ею до моего крика разговор с самой собой. «Да ну его, ну его, не трогай, Андрюшенька, – проагунькала она, – это не грибы, ну разве это грибы, покажу я тебе грибки, ладно, пойдем». И через два поворота и три лужи мы сошли с тропинки, обогнули пару кустов, раздвинули высокую сухую траву и вышли на полянку, с трех сторон замкнутую невысокими кривоватыми березками.
– Ну где, где грибки-то? – от усталости капризно уже надув губу, спросил я.
– Да вот же, смотри, смотри, вот грибки и вон грибки, смотри, – сказала Ксения Васильевна, не сообразив, что я гляжу под другим углом и вижу только верхушки осоки и пырея.
– Ну где же, бабка, ну где? – почти отчаясь, начал подвывать я.
Откликнувшись, видимо, на более ей привычную по деревенскому обиходу «бабку», бабушка Ксения, скрипнув изломанной трудоднями спиной, взгромоздила меня на руки, и развернула лицом к полянке. Мамочки, я аж задохнулся от увиденного, наконец, – вся округлая с краю чащобы выемка проросла вдруг тесно стоящими разной высоты красношляпочными грибами-подосиновиками, между которыми тут и там теплели бархатистой коричневой на более тонких, чем у красненьких, ножках шляпки подберезовиков. Ухнула пару раз близкая сова, загудел сильнее ветер, стало темнеть, явно шла откуда-то гроза, и мы поспешили домой.
Рос я не так стремительно, как теплыми сырыми ночами выдвигаются из засыпанной хвоей и прелыми листьями лесной земли сыроежки и лисички, и уж подавно не так резво, как появляются на поваленных бурей и обросших мохом стволах упругие пучки ненаглядных опят. Лет с тринадцати-четырнадцати, утратив для родителей каждоминутный воспитательный интерес, всякое лето с дачными приятелями я шлялся по небогатым благородным грибом лесам вблизи Яхромы с корзиной и кухонным ножичком, коих перетерял множество. Встанешь часов в пять, что-нибудь сжуешь и в резиновых на теплый носок сапогах и легкой от дневной жары одежонке шагаешь по росистой июльской траве через Ульянки к Нерощино, где, говорили, пошли колосовички. Из глубокой долины, где речка, поднимается на засеянные горохом поля туман, желто-розово-синий от подсветки вылезающего из-за Дмитровской гряды солнышка, в деревне – утренний собачий перебрех, в лесу еще прохладно, комарики повизгивают тонко, целясь в ухо, но вот уже и оранжевый рядок меленьких лисичек, вот и беленький, и парочка молодых подберезовых. Ходим долго – до полудня, набираем по полкорзинки, возвращаемся, и на обратном пути – обязательно – поваляться часок на высоком стоге под пекущим с ясного неба жаром, хотя до дому – всего ничего.
Между двадцатью и сорока годами редко – хлопот-то, хлопот! – выпадало мне удалиться в леса на розыски соленой и маринованной в будущем закуски. Да-да, в юные-то годы вермуты-портвейны и разные сладкие винишки не требуют к себе ни маслят, ни рыжиков, ни опят мелких с черными горошинками перца и гвоздичными палочками из-под закатанных женой крышечек. Холодная же и даже не очень – тем более – водочка просит почетного караула хрустких соленых ножек белых и более мягких подосиновиков, присыпанных горкой зеленым луком в хрустальной, по возможности, вазочке; сойдет, тем не менее, и простой тарелочный фаянс, и мутноватые граненые стакашки пусть звякнут, на полпути сойдясь, и довольное уханье-кряканье обозначит высшее качество грибочков. Но что закуска – ерунда это все, мало ли чем закусывать следует, да и не всегда же выпиваешь, иногда и на паузу встаешь, кушаешь, так сказать, «Твикс». А вот это да – выехать раненько в деревню дальнюю, скажем, Матвейково, где дорога кончается, а лес начинается, и продолжается, продолжается, а там на светелках-опушках сквозь тонкую волокнистую травку крепкие белые с суповую тарелку размером и подосиновики, как светофорный желто-оранжевый свет у начинающихся дебревых зарослей. Деревенские тамошние – те и в лес не ходят, собирают прямо за околицей в рощице, но где – нипочем не покажут, – ищи дураков. Или проехать полторы сотни по вечно разбитой Дмитровке до Переславля-Залесского, еще четвертак в сторону и – в лес по сомнительным колеям. Между редких малорослых сосен в непонятных канавках – маслята, чуть не на лугу – издалека показавшийся затейливым булыжником килограммовый белый на пару с собратом грамм на двести, а позже – вылезаешь распаренный из густейшего в твой едва рост березнячка, спина куртки шевелится лосиной вшой, но скалишься радостно запекшимся ртом – нарезал на кочках ведро мелких красненьких. И едешь обратно, и в ложбинке под Дмитровом чудом огибаешь выскочивший с обочины наперерез, что твой гаишник, пьяный «Беларусь», и потом – вспоминаешь и вспоминаешь это все с заново придумываемыми мелочами.
Или вот – поехали мы от Пушкино подмосковного в сторону Красногвардейска, где за Жуковкой можно удобно подобраться прямо к лесу, – за опятами. Сразу за дачками начинаются в березах, перемежаемых липой и осиной, длинные вечно мокрые просеки, по обе стороны которых – пропасть валежника, откуда, если вылезли-таки опята, далеко не уйдешь – много их. Но не было тогда опят, поторопились мы, и, забредя до почти плутания, среди рыжего мелколесья спугнули слоновьей своей поступью здоровенного зайца, шоколадно-белесого, как начинка «пралине» в советских конфетах. Зайдя в вираж на первом же прыжке, на секунду заяц показал нагулянную за лето бочину и растворился беззвучно, как не было. Первый мой нынешний грибной лозунг – не найдем, так погуляем, – из-за этого зайца тоже.
Выбирая место для новой, после сгоревшей в Мамонтовке, дачки, прельстился я не ценой небольшой и не удобством езды по двум Каширским шоссе, а углубленностью в начало приокских лесов, выдыхающих с середины июля грибной дух в изобилии, – не тот я уже, чтобы пилить спозаранок за сто верст по туманной дороге.
В последних днях августа и первых – сентября дачи перестают пахнуть шашлыком и свежей краской новых заборов, детишки уехали отмечать с проклятьями День знаний, и подмосковной тишине мешают покойно лежать на полого опускающейся к Оке равнине только поезда и взыкающая через доски далекая пила.
Не засиживаясь допоздна с книгой, коньяком и сигаретами, а иногда, по настроению, с трубкой, но это редко, или гватемальской, только, сигарой, встаю в половине седьмого, когда из окошка второго этажа становится заметной желто-красная на небе полоса, становящаяся тут же багровой, потому что с юго-запада волочет циклоническую ватагу низких туч и теплый еще еле заметный дождь кропит округу, побрякивая каплями в переполненные под водосточными трубами бочки. Непременно горячий завтрак – сколько буду ходить-то? – под тарабарщину бодрыми голосами сообщающих всякие ужасы теледикторов, одеваюсь – сапоги, плотные от крапив и стряхиваемой кустами воды штаны, непромокающая с капюшоном куртка, шапчонка, беру емкую двуручную корзину, длинный нож, посох с набалдашником в виде змеиной головы, срезанный года два назад, хотя и знаю, что с палкой в лес – нельзя, – иду. Десять минут ходу, спускаюсь с насыпи двухпутной железки, встаю на тропинку, пройдя по которой всего с километр неделю назад, наполнил плетеную емкость доверху отборными и калиброванными разноцветноголовыми. За опятами я, – эй, лесовичок, как делишки, брателло? Перекуриваю, усевшись на первый же из поваленных июльской бурей стволов, поняв уже, что дальше мне идти незачем – метров на пятьдесят вглубь и вперед и стволы, и вывернутые двухметровые растопыренные корневища, и идущие от засохших берез корешки – по земле, и сами стволы – все светится гвоздиками и свечечками опят цвета мизинца квартеронки, пьющей такого же оттенка сдобренный молоком кофе с ванильной пастилой.
Проходит и опять сыплется дождь, саднит порезанный в радостном пароксизме срезания обильной опятной мелочи палец, время сворачивается песьим клубком в центре поляны и дремлет, поджидая, когда уймется наслаждаться немолодой мужик, так отчего-то любящий увидеть в лесной полутьме, что из-за папоротниковых в мелкую крапинку опахал поглядывает на него крупный подосиновик.