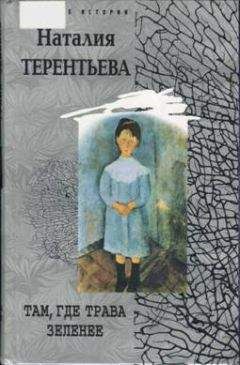– Эля…
– Что? Что ты хочешь еще?
– Вот батя…
Митя от растерянности хотел сказать, что его отец теперь работает художником у них на мануфактуре, уже две недели, разрабатывает новую обертку для традиционных булочек с изюмом… Но Эля, только услышав, что Митя опять заговорил, ни с того ни с сего, о своем отце, взвилась:
– Батя?! Ты хочешь поговорить о своем бате? Зря я тебя пожалела! Зря! Надо было тебе, убогому, показать скульптуру, которую сделал твой батя!
– Скульптуру? – Митя не поверил своим ушам. – Какую? Ты видела скульптуру…
– Да! Да, Митрофан, я видела это убожество, эту ничтожную уродскую фигуру… – Эля с ужасом почувствовала, что не может сдержать слез. Откуда слезы, почему? При чем тут слезы? Она ненавидит его, ненавидит! – Я ненавижу тебя, я ненавижу твое идиотское имя, твою клоунскую фамилию, я ненавижу твоего отца, урода, я ненавижу всю вашу уродскую, бездарную, никчемную, нищую семью, ты понял меня? Уходи вон отсюда, никогда мне больше не пиши, ничего не говори, никогда не приходи, я тебя ненавижу и буду ненавидеть всю жизнь! – Эля отвернулась, подхватила на руки щенка, который с веселым лаем подпрыгивал, глупый, как будто отвечая на каждое Элино слово, и побежала, споткнувшись и еле удержавшись на ногах, домой.
Никита подошел к Мите, ткнул его в грудь, так, что Митя отшатнулся и тоже чуть не упал.
– Вон пошел, ничтожество! – негромко сказал Никита. – И чтоб ты близко к ней не подходил, ты услышал меня?
Митя молча выслушал Элю, молча взглянул на Никиту, не произнеся ни одного слова. Молча развернулся и ушел.
Надо дождаться утра. Утром он поедет и посмотрит на то, о чем он слышал с детства. То, о чем такими страшными словами сказала Эля. Она видела, обманула его, не сказала тогда.
Митя, как во сне, дошел до дома. Отец пытался спрашивать, где он был, почему так задержался в магазине, почему ничего не купил. Митя молча выложил на стол сто пятьдесят рублей, которые ему дали на молоко и хлеб. Он купил Эле шоколадку, ее он тоже выложил. Пусть съедят родители. Шоколадку купил на свои деньги. Он давно ходит пешком и экономит деньги, которые мать дает на троллейбус.
– Митяй, ну-ка… – Отец подступался к нему то с лаской, сграбастывая его в охапку, то дал подзатыльник, то снял ремень и все поигрывал им, растягивал, пробовал в воздухе.
Митя равнодушно сидел в своей комнате, раскрыв книгу на одной и той же странице. «Мастер и Маргарита», там, где про древние времена, самая любимая Митина книга, самая любимая часть. Так все странно, загадочно, так все реально. Так и было, Митя точно это знает. И как хорошо уйти мыслями туда, где как будто остановилось время, где творилась история на многие века вперед, и снова и снова перечитывать эти строчки, зная их наизусть, слыша что-то новое…
Только чтобы не думать о своем, о сегодняшнем дне, из которого просто нет никакого выхода. Завтра он поедет. Но он, кажется, знает, что он там увидит. Может быть, она нарочно сказала, чтобы побольнее его задеть? Но почему-то ему кажется, что не нарочно.
Митя стал засыпать прямо над книгой. Перелег на кровать. Отец, обнаружив, что Митя уснул одетый, растолкал его, заставил раздеться. Митя разделся и снова уснул. Отец снова разбудил его, потому что Митя не вынес мусор и вообще. Не положено у них в семье, чтобы так вот, молча, ничего не говоря, Митя приходил и уходил, ничего не объясняя, вдруг ложился спать, не сказав бате «Доброй ночи». Митя вынес мусор, почистил зубы, постирал себе футболку, сказал бате «Доброй ночи» и лег спать.
Утром он выскользнул еще до того, как стала ворочаться мать. Она привыкла вставать рано, провожая Митю в школу, хотя на работу уходила гораздо позже, но сейчас спала. Митя выпил воды из чайника, сунул в карман два сухаря, взял сбереженные деньги на электричку и автобус и выбежал из дома. Было еще темно и очень холодно. Митя пожалел, что не надел старую зимнюю куртку с меховым капюшончиком. Рукава коротки, на капюшоне – ушки, как у облезлого медвежонка, и похож он в ней на малыша, которого забыли в детском саду, но в ней хотя бы тепло. На улице ноль или даже минус. Под ногами хрустели опавшие листья, замерзшие за ночь.
Наверно, надо было попросить у Эли прощения. Но как – рядом стоял этот парень… Такой холеный, благополучный, так по-хозяйски себя ведет с Элей… Надо было попросить… Надо, чтобы она знала, что он очень жалеет обо всем, что было. Жалеет, что не отвечал ей, жалеет, что встречался с Тосей… Ничего эти встречи ему не дали. Только в душе стало тошно. Тошно и плохо. Но как это сказать, какими словами, чтобы она услышала? Тем более она написала, что не любит его. От обиды написала. Или правда – разлюбила? Так же бывает, наверно. Зачем тогда плакала? Говорила, что ненавидит, и плакала. Он бы тоже не простил такого предательства никогда. Никогда.
Митя как во сне пересаживался с транспорта на транспорт. Была суббота, народу очень мало. Полупустое метро, пустой вагон в электричке – холодно, конец октября, на дачу уже никто не ездит. Митя сидел у окна и вспоминал, как они с Элей ехали вместе – это было как будто совсем недавно, может быть, даже в этом же вагоне… И в то же время очень давно, в другой жизни, в которой еще не было темноватой Тосиной комнатки, запаха, въевшегося ему в кожу – сладковатого, приторного, ни на что не похожего, запаха Тосиной близости.
Митя помотал головой. Черт, черт, зачем все это, как это все случилось, почему? Почему? И что ему теперь делать? А что ему делать с музыкой? С его звездным путем? С залами, полными поклонниц, которых он будет расшвыривать ногами… Зачем вообще женщин расшвыривать ногами… Но отец не может ошибаться… Не может… Он не ошибся, нет, ошиблись те женщины… Вот сейчас Митя пойдет в Гнесинку, во вторник, и там ему другие, хорошие педагоги, не женщины, мужчины – они гораздо больше понимают, у женщин нет логики, нет ума – они ему скажут, что для него открыты двери Музыкальной академии, что он – гений, что все гении сначала считались бездарностями… Потому что простой человек не может понять, что у гения внутри…
Как-то очень плохо от всех этих мыслей… Почему он должен быть гением? Почему он не может быть простым человеком? Почему он должен играть по пять часов в день? У него ничего не получается, он плохо запоминает, его руки не хотят запоминать, не хотят играть, его руки хотят делать что-то совсем другое…
В автобусе, кроме Мити, было только двое женщин. Одна из них, пожилая, но еще не очень старая, все поглядывала и поглядывала на Митю, как будто знала его. Митя даже отвернулся к окну. Женщина же села поближе, на сиденье через проход.
– Видела тебя где-то… Не могу вспомнить где… Ты на похоронах не был?
– На каких похоронах? – похолодел Митя.
– Да хоронили сейчас у нас парня… На тебя похожий…
Митя смотрел на женщину и не мог понять, о чем она говорит.
– Это не я…
– Нет, тот, которого хоронили, не ты, конечно… Просто все друзья на тебя похожие, такие же… А ты из Горяновки?
– Нет.
– А откуда?
– Из Москвы.
– А-а-а… А едешь в Горяновку?
– Нет.
– А куда?
– В Криволепово.
– Нижнее или Верхнее?
– В лагерь, там есть заброшенный рядом…
– А-а-а… лагерь… Был там лагерь, да… А зачем?
– Надо… Там…
Женщина все допытывалась и допытывалась, так рассматривая его, как будто хотела что-то найти в его лице, кого-то, на кого он похож или кого она сначала увидела в нем… Это было очень неприятно. Митя бы вышел, чтобы не продолжать этот разговор, но сколько придется ждать следующего автобуса, он видел расписание, автобусы ходят два или три раза в день.
Наконец Митя с облегчением вышел. В ту же сторону, куда и ему было нужно повернуть, шла какая-то подозрительная компания, Митя переждал, пока они пройдут. Еще не хватало лишних приключений по дороге. Он завернул в магазин, купил сигарет.
– Сколько лет? – спросила продавщица, уже пробивая чек.
– Сто, – ответил Митя.
– Я и вижу, – криво улыбнулась та. – А че такой злой-то с утра, а, дед? Сто лет…
– Жизнь такая, не я такой, – проговорил Митя.
– А я вот не злая… – подмигнула ему продавщица. – Может, тебе еще чего продать? У нас ассортимент… Для столетних как раз… Да посидим потом, покурим, поболтаем… А, красивый? Глаза какие грустные…
Митя молча взял пачку сигарет, сдачу и вышел. Что он им всем дался? Не хочет он больше ни с кем болтать. Митя закурил, но с утра как-то от дыма стало нехорошо, тем более что он не курил с лета, с тех пор, как перестал ходить к Тосе. Митя выбросил сигарету и спрятал пачку. Отцу отдаст, в случае чего. Отцу… Митя с досадой выключил телефон. Не надо, чтобы его сейчас дергали, а отец как раз скоро проснется и забьет тревогу – как же так, Мити нет дома!
Митя перемахнул через забор в том же месте, что и летом. Да, вот здесь перелезала Эля, только трава была зеленая, высокая, цвело что-то белым, куст какой-то, и на поле желтела сурепка, ароматно пахла…