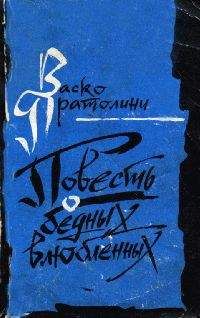Мой первый сын доставил мне особенно много мучений. Это и понятно. Четыре часа у меня продолжались схватки, с часу ночи до пяти утра. Мне было по-настоящему больно. Но, когда все кончилось, я не клялась, что никогда больше не соглашусь вынести подобные муки. Надо было кормить его грудью; затем пришло время, когда можно было не пеленать его, и я зачала нового ребенка. Он был единственным, который не заставил меня страдать. В одно весеннее утро он ткнулся ножкой в мой живот, еле-еле. Для меня это было совсем неожиданно. Я едва успела лечь в постель. Когда пришла акушерка, он уже спал подле меня. Я его сразу же благословила и потом всегда благословляла. Однако порой я спрашиваю себя, заслуживает ли он этого. Он больше других огорчал меня. Тем не менее я любила его больше всех. Почему? Может быть, потому, что он тихонько стучал своими ножками в мой живот и не сделал мне больно? Не знаю. А может быть, оттого, что я его не понимаю. Он еще в утробе воспринял мое одиночество. Я его совсем не понимаю. Другие мои дети чем-то напоминают друг друга, и их я кое-как могу понять. Только он ни на кого не похож.
Отец мой не раз говорил, что в нем есть что-то от него и от его родителей. Но я мало знала моего отца.
Третий ребенок причинил мне неслыханную боль. Однако и тогда я не зареклась иметь детей. Я готова была вытерпеть любые муки, лишь бы у меня не пропало молоко до тех пор, когда его можно будет отнять от груди. Когда он впивался в мою грудь и сосал, надувая щеки, я стискивала зубы, глаза у меня вылезали на лоб, а лицо покрывалось красными пятнами. Но я только просила его: «Потише, солнышко. Пожалей меня». И все-таки мне пришлось дважды рассекать грудь. От боли я искусала все руки у мужа, который держал меня, пока хирург делал мне операцию. Я все претерпела ради моего третьего ребенка. Зато кормила его я, и только я.
Четвертой у меня родилась девочка. Она и следующие мои дети не оставили на мне особенно глубоких шрамов, которыми словно стигматами наделило меня материнство. Все они вцеплялись в мои груди и сосали их, а о том, как мне бывало больно, узнавали уже потом, когда обида или отчаянье заставляли меня вспоминать какую-нибудь из горьких страниц моей жизни. Мать никогда не должна много говорить о себе, о своем горе и о своих страданиях. Пока ее дети маленькие, им это неинтересно, а когда они становятся взрослыми, жизнь преподносит им столько собственных забот и огорчений, что горести старой матери теряют для них всякое значение. Они о них даже не думают.
Другие мои дети доставляли мне те же самые заботы. Рожать в конце концов привыкаешь. Наступает время, когда ты лучше акушерки знаешь, как все должно произойти. Считаешь месяцы, потом дни. Открываешь глаза и поворачиваешься, чтобы взглянуть, как он спит своим первым сном. Взглядом спрашиваешь мужа. Он тоже понимает, о чем ты его спрашиваешь, и говорит тебе, кто родился — мальчишка или девчонка. Потом вы оба улыбаетесь, вспоминая, как вы гадали на куриной кости, желая заранее узнать, родится у вас на этот раз мальчик или девочка. Вы улыбаетесь, понимая, что ничто не могло изменить естественного хода вещей. Вы уже убедились, что самое лучшее — радоваться тому ребенку, какого послало вам небо. Признаться, сперва я этого тоже не понимала. Зато потом! Я была молода, и мне очень хотелось, чтобы первым ребенком у меня был мальчик, вторым — девочка, третьим — опять мальчик, четвертым — снова девочка. А потом я уже не разбирала. Ведь все они доставляют хлопоты и огорчения, мальчики — одни, девочки — другие.
Десять раз я вся обновлялась. Для каждого из детей, что я родила. И я принимала все, словно это было впервые. Душа моя была готова обновиться, едва лишь подле меня в постели оказывался новорожденный. Я дарила, как дарит и как должна дарить природа. Щедро, без сожаления. Поэтому мне кажется, что я прожила недаром. Ничего особенного в жизни я не желала. Только вот, с тех пор как себя помню, хотела быть матерью. Но это простительное желание. В конце концов понимаешь, что один день не похож на другой и что каждый из них, обновляясь, приносит с собой свои радости. Вот почему я никогда не уставала быть матерью. А теперь я считаю детей моих детей своими детьми. Теперь я обновляюсь, благодаря внукам. Когда я беру их на руки, мне кажется, будто я прижимаю к груди собственного ребенка. Я научила моих дочерей, как надо кормить их и какое слабительное давать им, пока они еще совсем маленькие, и какое, когда им становится три-четыре года.
Это я научила их мыть и пеленать детей, хотя меня самое этому никто никогда не обучал. Когда я родила своего первого ребенка, подле меня не было никого, кроме мужа. Невесткам я тоже пробовала давать советы. Но скоро поняла, что мне лучше к ним не соваться и помалкивать. Невестки для нас чужая плоть. Нам, матерям, трудно убедить их в том, что их дети еще и дети наших детей. Они поймут это, когда доживут до моих лет и Когда у их собственных детей появятся жены. Они уверяют, будто я говорю так только потому, что не знаю законов природы. Ох, уж эти мне законы природы! Я — мать, а когда мне говорят, что я эгоистка (сколько раз я слышала это), я отвечаю, что когда-нибудь и они станут такими же, как я. Время всех перемалывает, и этого никому не миновать.
Я отдала моим детям лучшую часть своей крови, всю свою молодость, все свои силы. Но я не жалуюсь. Даже теперь, когда голова у меня трясется и мне то и дело приходится, чтобы не упасть, хвататься за что-нибудь либо садиться на стул. Не было дня, чтобы, заботясь о них, я вставала позже шести, даже теперь, когда многие из моих детей от меня ушли. У матери всегда найдется чем заняться до самой старости, и никакая помощь не сможет освободить ее от работы в ее маленьком мире. Но иногда я с ужасом спрашиваю себя, есть ли от меня сейчас кому-нибудь хоть какая польза? Есть ли от меня какой-нибудь прок моим обзаведшимся семьями детям? Я тешу себя надеждой, что все еще немного помогаю им; но знаю, что я им больше не нужна. У них есть жены. У них есть мужья. У них есть свои дети. Нужна ли я моему мужу? А мы оба старые калоши, и скоро даже старьевщик не захочет дать за нас ни гроша.
Но я не жалуюсь. Я не жалуюсь даже, когда кто-нибудь из них ранит меня в самое сердце, спрашивая, «для чего я произвела его на свет». Чаще всего меня спрашивает об этом мой второй сын. Я его не понимаю; а он, спрашивая меня об этом, не понимает, что творится в моей бедной старой голове. Я знаю, что для него я тоже обновлялась, что ради него я страдала и страдаю. Но я не знаю, для чего я произвела его на свет. Мне хотелось иметь детей, чтобы, подобно природе, все время обновляться. И ему я тоже отдала себя всю, чтобы он вырос здоровым и крепким. А если жизнь обманула его и наши надежды, если она чинила нам всяческие препятствия, если она швырнула мою маленькую скалу далеко в море, туда, где яростно бушуют ветры и высоко вздымаются волны, то разве в том виноваты я и мой бедный муж? Теперь, когда мне уже шестьдесят, я твердо усвоила лишь одно: надо жить.
Однако, когда на меня нападает отчаянье, я проклинаю судьбу и твержу, что лучше бы мне придушить их всех, как только они появились на свет. И — очень страдаю от того, что говорю так. А им это даже невдомек. Они тут же становятся моими врагами и больше не чувствуют, что в их жилах течет моя кровь. Потом я Обо всем забываю и, изредка поглядывая на них, даю им понять, что мои слова были вызваны всего лишь раздражением и обидой.
Не они, а всегда я делаю первый шаг к примирению, пытаясь обнять и поцеловать их, и прошу простить меня за то, в чем они же были виноваты. Ведь у матери нет гордости, кроме гордости за своих детей; даже сознавая свою правоту, она вынуждена терпеть и делать вид, будто виновата. А они еще станут, уверять вас, что вы-де темная и отсталая женщина и что куда уж вам понять молодежь, понять то, что ей нужно и к чему она стремится. И вы делаете вид, будто верите всему этому, потому что много раз безуспешно пытались возражать им, намекая, что начали жить задолго до их рождения и что когда-то и вам окружавшие вас люди тоже казались темными и отсталыми.
Это говорят дочери. Потом наступает день, когда им приходится в этом раскаяться. Они становятся матерями, и их дети начинают говорить им то же самое, что когда-то они говорили вам. И вы видите, как они из-за этого плачут. Все повторяется. Даже печали и радости будут завтра такими же, какими они были вчера. Но вас это не обрадует, вы не станете напоминать им, что много лет назад нечто подобное уже было между вами и ними. Вы только скажете, чтобы подбодрить их: «Не обращай внимания, доченька. Наверное, так уж заведено, что старшим не дано понять молодых».
Любовь к первым пяти детям переполняла меня, она была неугасимая, ревнивая и каждую минуту какая-то другая. Остальных я любила уже не так сильно. Почему? Не потому ли, что меня начала оставлять надежда? Впрочем — надежда на что? Не знаю. Пока я не родила своего пятого ребенка, меня что-то внутренне поддерживало. Потом я вдруг почувствовала себя внутренне опустошенной, отданной во власть судьбы. Говорят, будто дети — богатство семьи. Не верьте. Дети — это заботы и огорчения, особенно когда вы бедны. Мой муж был рабочим, но с годами он все чаще оказывался без работы. Ужасно заканчивать день, не зная, что будет с вами завтра. Вот тогда-то я впервые и восстала на бога. Я потребовала в церкви, чтобы он помог мне накормить моих детей.