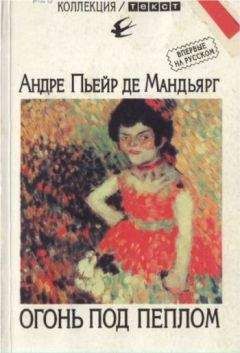А теперь, девочка моя, иди, жалуйся, если хочешь. Над тобой все только посмеются.
Голая, как была, даже не подобрав шаль, я бросилась к входной двери, но не смогла ее открыть. Он запер меня на складе гробов, оставив включенными всего три электрические лампочки, когда я колотила в дверь, они слабо подрагивали на концах неравной длины проводов.
Я голая и грязная, и мне не хочется ни мыться, ни одеваться. Впрочем, воды у меня нет, а моя одежда брошена в гроб, словно в огонь или в воду, и мне кажется, моим рукам не позволено извлечь ее оттуда. Чтобы защититься от ночного холода, я могла бы разве что завернуться в свою красную шаль, она всего лишь вывалялась по пыльному полу, как и я сама. Но хотя после ледяного дождя, который обрушила на город гроза, холод стал пронизывающим, я не так уж сильно от него страдаю и не хочу от него укрываться. Если Педро Виргула собирается и завтра со мной позабавиться, а это вполне возможно, раз он запер меня в своей лавке, как убирают про запас в холодильник кусок мяса, он найдет меня послушной и готовой к употреблению. По первому знаку я растянусь в пыли. Но он больше не увидит, как я сбрасываю с себя одежду, разве что принесет мне новую или заставит надеть старую, пригрозив бритвой; скорее всего, не случится ни того, ни другого — мужчине, с удовольствием смотревшему, как девушка постепенно обнажается, покажется скучным присутствовать при одевании той же самой девушки, чтобы затем снова увидеть, как она раздевается донага. Так что я почти уверена, что останусь голой на все то время, какое проведу среди гробов. По всей видимости, до самой своей смерти. Я просто отмечаю это, без жалоб и без радости, и я не то чтобы, как говорится, «смирилась», нет, мое безразличие далеко превосходит любое смирение, и я, повторяю, могла бы испытывать жалость к собственному телу, только считая его чем-то никоим образом мне не принадлежащим. И вот я расхаживаю взад и вперед среди больших черных гробов (гробов-самцов), гробов розовых и голубых и хорошеньких детских гробиков, куда могла бы уложить крошку Марианиту. Я карабкаюсь и прыгаю по ним, словно это гимнастические снаряды на женской палестре, катаюсь на них верхом, как на деревянных лошадках, делаю кульбиты, опираясь на них вместо параллельных брусьев. Иногда я встаю на стекло, сквозь которое потом можно будет увидеть обитателя ящика, и это скверное зеркало показывает мне серый цветок на длинном стебле, смутное отражение моей вертикальной наготы, перпендикуляр к будущей горизонтали лежащего. У меня нет ни связи, ни сообщения с миром мужчин и женщин, я отмежевалась от всех, ко всему безразлична, навек отвратилась от любви, застряла в промежуточном положении между жизнью и смертью, между плотью и прахом, между мгновением и вечностью, и мне нечем (и, наверное, нечем будет) заняться, разве только склонять над футлярами грядущих трупов поруганное тело. А ты, когда, развалясь на подушках в сонном оцепенении после сытного обеда, смотришь на меня, слушаешь мою историю и считаешь меня промелькнувшим в твоих грезах отражением, уверен ли ты, что с тобой дело обстоит не так, что каждое из ваших приключений или вся жизнь любого из вас, мечтатель, читатель, сочинитель, есть нечто большее, чем ничтожный миг в грезах исполинского пьяницы, развалившегося на своих облаках, или щекотный спазм в глубине беспредельной утробы, возможно породившей Вселенную? За стенами склада гробов и за стенами комнаты, где ты лежишь, великая тьма. Слышишь ли ты вой карет «скорой помощи», рыщущих в поисках добычи?
Даниэль Пуэн открыл глаза, и ему показалось, будто чья-то фигура скрылась в висевшем над постелью зеркале, как если бы ее резко оттащили назад. Одновременно с этим он услышал жуткий вопль кареты «скорой помощи» или полицейской машины, на бешеной скорости пролетавшей через ближайший перекресток. Убедившись, что сон не возобновляется, он стал раздумывать над его происхождением и решил приписать его тому обстоятельству, что в Мехико проститутки промышляют в тех же кварталах, где обосновались торговцы гробами, и там, где он гулял вчера, ему попалась на глаза не одна юная и утомленная девушка, прислонившаяся к витрине лавки гробовщика. Многие из тех слов, которые он слышал — или из тех, что ему послышались, — не могли исходить из уст девчонки из Мехико, они скорее несли на себе отпечаток фантазии сновидца. И все же ни один из персонажей его грез не был таким реальным, как Мариана Гуаяко… Как же в этом разобраться? С отуманенной, будто с похмелья, головой он встал, прихватил зонтик и вышел из дома, зная, по крайней мере, одно: он вернется в этот квартал, со страхом ожидая встречи с мужчиной, женщиной, животным, опасаясь, что увидит предмет или уличное происшествие, которое будет иметь для него самые серьезные последствия и явится продолжением того, во что он отказывался верить, считая ложью или бесплодной фантасмагорией.
…Словно живой студень, где свет посредством непостижимого волшебства был превращен в плоть.
Жюльен Грак
— Пришли новые алмазы, — сказал Саре отец. — Возьми ключ от сейфа. Осмотришь их завтра утром.
Он говорил, не отрывая глаз от шелковистого ковра с красно-коричневым узором, на котором стояли его маленькие ступни, обутые в такую мягкую кожу, что, казалось, туфли шил не сапожник, а перчаточник. Лежавшие на бархатных подлокотниках руки тоже были маленькие, с острыми ногтями. Зато голова у него была непомерно большая, еще крупнее делала ее короткая рыжая борода, окаймлявшая лицо до начала густых кудрявых волос, раскрытым веером сиявших на спинке кресла. Господин Моз (Сезарион-Давид), как и все его предки на протяжении нескольких веков, торговал драгоценными камнями. Помимо ремесла и клиентуры, от дедов и прадедов ему достался в наследство старый дом с великолепными позолоченными решетками в верхней части улицы Львов. В первом этаже была его лавка, во втором он жил вместе с дочерью, которая со временем должна была сделаться его преемницей, поскольку других наследников у него не было.
— Долго мы их ждали, — ответила девушка. — Мне не терпится взглянуть на большой голубоватый камень, за который ты так дорого заплатишь; если старый Бенаим не приврал, когда описывал его, камень должен сиять светом планеты Венеры.
— Старый Бенаим ни разу в жизни меня не обманул, — возразил ювелир. — Я уверен, что камень прекрасен, но не хочу видеть его прежде тебя. Девственница первой должна оценить ледяную чистоту и блеск алмаза.
Девушка гордо вскинула голову. У нее были большие темные с серыми и зелеными крапинками глаза на смуглом овальном лице с очень гладкой кожей; свои черные волосы она заплетала в две косы и перекидывала их на грудь, чуть приподнимавшую платье из нелепой ткани, на которой рыбы кувыркались среди водяных цветов; длинные руки и шея словно еще вытягивались оттого, что лишены были украшений; неимоверно длинны были и ноги.
Господин Моз, посмотрев на нее, сказал:
— Ты похожа на пригревшуюся на солнце ящерку. Многих женщин завораживает блеск камней, словно мышей — змеиный взгляд. Другим он не опасен, но их оберегает лишь равнодушие. Ты же, возможно, из-за своей странной змеиной природы, вступаешь с камнями в сговор. Ты умеешь рассматривать их и взвешивать, ты с ними говоришь, ты ласкаешь их; можно подумать, ты проникаешь вглубь, потому что не раз указывала мне на изъяны, ускользнувшие от внимания самых прожженных антверпенских торговцев. Лучше бы тебе не выходить замуж, если хочешь сохранить дружбу с поистине благородными камнями, алмазом и изумрудом. Во всяком случае, ты не похожа на мать.
— Я не собираюсь замуж и рада, что не похожа на свою мать, — ответила Сара.
Правду сказать, ей немало пришлось бы потрудиться и порыться в памяти, чтобы вспомнить мать, умершую всего через несколько лет после рождения дочери; но множество фотографий, извлеченных из альбомов и картонных рамок, сохранили облик красивой на вкус пошляков (так думала Сара) женщины с буйно вьющимися волосами, тучной и (казалось) сочившейся салом, слишком откровенно обнаженной купальными костюмами или экстравагантными вечерними платьями. Сара разорвала, потом сожгла эти фотографии; единственной виной отца, которой она так ему никогда и не простила, было то, что он пленился этой похабной тварью, хотя именно ей Сара тем не менее была обязана жизнью. Но о последнем обстоятельстве Сара почти забыла, ей хотелось бы родиться только от отца. В отличие от большинства молодых особ, рассуждающих прямо противоположным образом, у Сары отвращение к процессу воспроизводства порождалось сильной и прочной неприязнью, пробуждаемой в ней портретами матери.
Господин Моз был неразговорчив; не ответив, он снова принялся разглядывать узоры ковра. Девушка тоже умолкла. Что же касается упомянутой ими неприятной особы, супруги одного и матери другой, ее бледный призрак уже улетучился и полностью изгладился из их памяти к тому времени, как служанка накрыла на стол.