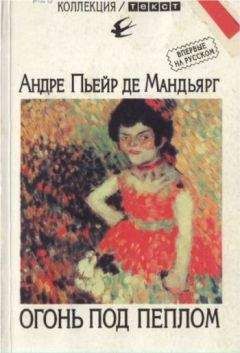Господин Моз был неразговорчив; не ответив, он снова принялся разглядывать узоры ковра. Девушка тоже умолкла. Что же касается упомянутой ими неприятной особы, супруги одного и матери другой, ее бледный призрак уже улетучился и полностью изгладился из их памяти к тому времени, как служанка накрыла на стол.
В полдень господин Моз и его дочь лишь слегка закусывали. Вечером, напротив того, любили тяжелую пищу; щедро сдобренное уксусом и пряностями копченое или соленое мясо, паштеты и маринады они поедали холодными, словно старались сделать эти блюда еще более неудобоваримыми. Насытившись, они тотчас отправлялись спать, и сон одаривал их видениями такими же сытными и пряными, как проглоченная пища. Между собой они в шутку называли время ложиться спать «началом представления» и, расставаясь у ведущей в спальни лестницы, желали друг другу хорошо поразвлечься. И все же необъяснимая стыдливость мешала им делиться друг с другом тем, что они видели и ощущали, рассказывать о ночных приключениях, навеянных застольными излишествами. Они никогда не упоминали об этом, сойдясь на следующий день после утреннего чая (который оба пили в столовой, но порознь: сначала дочь, часом позже — отец).
Стол был, по обыкновению, обильный, и господин Моз, облюбовав угрей с зеленью (таких аппетитных на синем фаянсе) и не дав себе труда наполнить тарелку, начал грубо и жадно есть прямо с блюда; он тем более распустился, потому что Сара, порой бросавшая на отца суровые взгляды, когда тот слишком пылко и шумно предавался чревоугодию, на сей раз к столу не явилась. Заглатывая пищу и запивая ее крепким темным пивом, он все ждал появления дочери. Но она так и не пришла. Покончив с едой, более обычного отяжелевший, он вернулся в гостиную, но Сары и там не оказалось. Господина Моза, знакомого с причудами юной особы, в иные вечера не желавшей «представлений», это нимало не встревожило. И он отправился спать, не докурив зажженной сигары, — помедли он еще, так и уснул бы прямо в кресле.
Опередив его, Сара поднялась в спальню, когда он только вошел в столовую. Не было тайной, и отец непременно вспомнил бы, не будь он так одурманен едой и напитками, что девушка всегда постилась по вечерам, если наутро ей предстояло по его просьбе осматривать драгоценные камни, и перед сном она долго к этому готовилась. Как всегда, она разделась, облачилась в ночную рубашку, расплела косы, расчесала волосы и уселась на холодный скользкий кожаный диванчик, где в полной неподвижности провела несколько минут, а может быть, и часов. Сначала ей было зябко в тонкой рубашке, потом она перестала что-либо ощущать, и ей удалось замедлить, даже почти остановить бег мыслей. Она утратила представление о времени и перестала слышать удары собственного сердца. Широко раскрыв в темноте глаза, она следила, как проплывают неясные очертания невесомых серых теней.
Она хорошо знала график (если можно так выразиться) этого умственного оцепенения. Воспользовавшись минутой, когда она словно выбиралась из глубокой ямы, Сара попыталась пошевелиться, и ей это удалось. Простое движение — зажечь стоявшую рядом с диваном лампу — стоило ей такого же великого усилия, с каким тонущий вырывается из ласковых объятий воды. Дальше все было просто: она вновь ощутила холод, почувствовала сильную усталость, ей захотелось дать отдых телу, манила теплая постель. Уронив из стеклянной трубочки на руку три крупинки, которые дарили непорочный сон и стирали малейшее воспоминание о сновидениях, она положила их под язык, где они должны были медленно таять, погасила свет и легла. И сразу уснула.
Она проснулась с рассветом или как только рассвело. Боясь опоздать на встречу, значившую для нее больше, чем любое свидание (к сверкающим камням она относилась с таким уважением, каким не часто удостаивала людей), Сара с вечера оставила ставни распахнутыми настежь и раздернула занавески, чтобы первые же солнечные лучи разбудили ее. Как бывало всегда, если с вечера она принимала свои крупинки, она проснулась свежая, с ясной головой и не стала залеживаться в постели. Все в доме, разумеется, еще спали — и отец, и служанки. Не смущаясь тем, что шум хлынувшей воды мог потревожить их сон, Сара прошла в ванную, открыла краны. Она приняла горячую ванну (до того горячую, что в обжигающую воду пришлось погружаться постепенно, медленно привыкая: сначала попробовать воду ступней, потом опустить всю ногу, затем вторую и, наконец, все остальное) и старательно вымылась, подолгу задерживаясь на интимных складках, которым, по ее мнению, требовалась особенно безукоризненная чистота. Она не стала ничем натираться, желая сохранить снизошедшую на нее дивную блаженную легкость, которую мог разрушить даже самый слабый аромат. Потом сунула ноги в туфельки без задников и облачилась в Платье из тончайшей белой чистой шерсти, удивительно мягкой и нежной, — его подарили отцу арабские купцы в день, когда он купил у них партию бирюзы. Отца бессовестно надули — камни через несколько месяцев умерли, утратив свой восхитительный цвет, но Саре досталось платье. Разрезанное спереди, без пуговиц, оно держалось на двух потайных крючках: один у шеи, другой на талии. Волосы Сары, тщательно расчесанные и приглаженные щеткой, но не заплетенные, нагревались от соприкосновения с шерстяной тканью. Сара подумала, что через них заряжается электричеством. «Словно большая лейденская банка», — сказала она себе, радуясь мысли, вносившей новизну в ритуал, — во всем, что касалось обряда мытья и одевания, она лишь строго следовала правилам, раз и навсегда установленным в ее отношениях с камнями.
«Интересно, могла бы я ударить током того, кто притронется ко мне пальцем? — подумала она еще. — Могла бы сбить с ног того, кто ко мне прикоснется?» Ей хотелось, чтобы кто-нибудь в самом деле вошел в ее комнату и дал ей возможность проделать смелый опыт. Она не хуже любой электрической машины осыпала бы дождем искр наглеца, которого в своих грезах воображала испепеленным, поверженным и скулящим, но совершенно безликим. Даже не маска, а, скорее, манекен. Такими были для нее все прошедшие перед ее глазами мужчины; ей никогда и в голову не приходило взглянуть пристальнее на одного из них и позже, уединившись, вспомнить лицо, поразившее ее достаточно сильно для того, чтобы не раствориться в великом множестве мужских лиц. В мир Сары Моз мужчины не допускались. Она была хорошо осведомлена об их устройстве и принципах действия, но приписывала себе холодность, гордилась своей бесчувственностью и твердо решила как сейчас, так и после смерти отца ограничиться обществом камней.
Она вышла в коридор, куда сквозь тусклое окошко света проникало ровно столько, чтобы не пробираться ощупью. Проходя мимо спальни отца, мимо комнаты служанок, она на мгновение замирала и прислушивалась, но толстые двери заглушали шум дыхания, ничего не было слышно, и казалось, что дом совершенно пуст. Парадная лестница вела только до второго этажа. Дальше, за дверью в конце коридора, начиналась другая, узкая винтовая лесенка. По ней Сара поднялась в комнату, где стоял сейф, — она помещалась над чердаком, в отдельной маленькой башенке на крыше старого дома.
Там, наверху, была круглая, плохо освещенная площадка. Сара постояла неподвижно, стараясь отдышаться после того, как взбежала по лестнице, потом расстегнула оба крючка, опустила руки, и платье соскользнуло на пол. Туфельки она тоже сняла, потому что привыкла являться перед драгоценными камнями голой и с босыми ногами, — словно для того, чтобы получить право рассматривать их, она тоже обязана была подвергнуться осмотру, сбросив с себя все до последней нитки, все, что могло бы помешать исследованию.
Из зажатой в кулаке связки ключей, точно такой, какая была у ювелира, Сара выбрала нужный. Ключ трижды мягко повернулся в замке, и дверь бесшумно отошла на хорошо смазанных петлях. Внутри было еще темно, но рукоятки, при помощи веревок с противовесами управлявшие движением четырех больших ставней, расположены были у самого входа в комнату. Когда рукоятку поворачивали, ставни, укрепленные на горизонтальной оси, опускались, словно лепестки цветка под лаской солнца, и в зависимости от угла наклона впускали через занимавшие почти всю поверхность стен четыре окна более или менее сильный поток света. Что было хорошо в этих ставнях — они были расположены так, чтобы помешать предполагаемым любопытным — даже если они заберутся на крыши соседних домов, вскарабкаются на печные трубы, взгромоздятся на флюгера — хоть что-то разглядеть в застекленной комнате. Итак, девушка опустила ставни ровно настолько, насколько требовалось для наилучшего освещения комнаты, и слегка вздрогнула, когда солнечные лучи упали на ее обнаженное тело. Она направилась к сейфу — трехгранной призме из черной стали в правом от двери углу. Шифр она прекрасно помнила (и помнила, как обрадовалась, когда отец назвал ей это слово) — «арас», ее собственное имя, вывернутое наизнанку, «как перчатка, — подумала она, — как мешок, как пойманный, выпотрошенный, растерзанный спрут», ее имя, отраженное в зеркале.