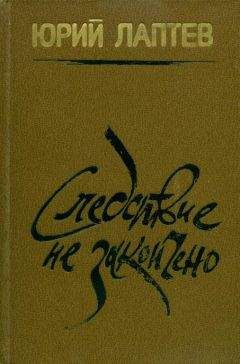1
Хотя отношения между ними были выяснены предостаточно, оба — Михаил Громов и Катюша Добродеева — в это утро словно бы стеснялись друг друга. Девушка стояла перед приемником, крепко сцепив под подбородком пальцы рук, и чуть ли не благоговейно слушала литературную передачу из Москвы, а Михаил сидел в другом конце комнаты с газетой и, казалось, усердно вчитывался в статью «Качественная обработка паров — залог урожая!».
…Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным…
Может быть, сказывалось настроение, но распаренный вдохновением баритон далекого чтеца все больше волновал Катюшу.
— Какие слова!
— Предположим, хулиган — словечко тухловатое, — не отрывая взгляда от газеты, отозвался Михаил.
…Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали…
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить…
Громов неожиданно для Катюши рассмеялся:
— Вовремя перекантовался лирик!
Такое отношение возмутило Катюшу.
— И не стыдно?
«На этом мы заканчиваем передачу, посвященную одному из любимейших молодежью поэтов — Сергею Есенину», — возвестил диктор.
— Ага, слышал, скептик несчастный! — торжествующе произнесла Катюша. — Любимейший поэт молодежи!
Однако и этот довод не подействовал на Михаила.
— А что ж она — вся под один стих причесана, как пишется, наша замечательная советская молодежь? Да и поэтов сейчас расплодилось. Мы как-то тех же Сергеев, кроме Есенина, насчитывали полный десяток: Михалков, Васильев, Смирнов, Орлов, Наровчатов, Островой… Или вот, — Михаил перевернул газетный лист, — еще один одаренный Серёнька объявился, некий Черенков. Машистый, видать, стихоплет: в одном опусе увековечил всех космонавтов. По четыре строки на брата!
— Ми-иша!.. Ну как ты можешь газетные стишки какого-то Черепкова…
— Не Черепкова, а Черенкова! И рифма, заметь, притертая: Вера — Венера, космическая мгла и невесомые тела. Да вот послушай…
— Не хочу!
Катюша обиженно отвернулась и пошла к двери, ведущей на террасу.
— Катюша, подожди! Неужто и пошутить нельзя? — Михаил догнал девушку, обнял за плечи.
— Ну, почему вы все… — Катюша обиженно отстранилась от парня.
— Что?
— «Поступь нежная, легкий стан! Если б знала ты сердцем упорным…» А вот ты никогда не говорил мне таких слов. И вообще мне иногда кажется…
Хотя Катюша снова не договорила, Михаил догадался, поэтому заговорил обидчиво:
— Во-первых, Екатерина Кузьминична, прежде чем мы с вами… второго мая это произошло…
— Запомнил все-таки!
— Все-таки! Да ведь до того вечера я целую зиму маячил по Фалалеевой протоке, вдоль вашего забора: тридцать два шага от угла до калитки, тридцать два — обратно. Как Зарецкий. А к тебе даже подойти не решался, не то чтобы высказать красивые слова. Но знал твердо: не отступлю!.. А вот Павлику Пристроеву — любимчику твоей благочестивой тети — я… высказал! Да я бы из этого пуделя белоглазого всю душу вытряс!
Хотя Громов говорил сердито, Катюше его слова понравились.
— Ты такой!
— Какой?
— Ох и напористый ты, Мишка!.. И правильно написал о тебе тот журналист бородатый: такие комсомольцы, как Михаил Громов, вступают в коммунизм, как молодые хозяева заходят в не достроенный еще дом, чтобы осмотреться!.. Я эту статью вырезала. И твой портрет.
— Стоило того: аллилуйщик он — твой борзописец бородатый. В ботву, видать, пошел.
— Не надо!
Катюша нерешительно приблизилась к Михаилу, обняла его, заговорила негромко, почти шепотом:
— Миша… Мишка! Мишенька!.. До сих пор не могу поверить, что скоро… Знакомьтесь, пожалуйста, — это мой муж. Муж! Даже смешно. Только… Ну что мне делать с твоими волосами!
Катюша достала из кармана пиджака Громова расческу.
— Да нагнись же!.. Вот и характер у тебя такой же.
— А точнее?
— Фу! Никак не расчешешь…
И, очевидно, желая задобрить неподатливую шевелюру, Катюша звонко чмокнула парня в щеку.
2
Хотя день был субботний, Кузьма Петрович Добродеев успел спозаранку побывать у себя в «Сельхозтехнике». И в райком наведался. А по пути к дому как бы мимоходом завернул в «боковушку» продовольственного магазина к Антониде Тихоновне Малининой — благодушной упитанной женщине, которой кто-то из местных остряков присвоил кличку «Антих с малиной». Здесь Кузьму Петровича уже ожидал сверток стоимостью в двадцать шесть рублей сорок копеек: две бутылки армянского коньяку, килограмм копченой колбаски, шоколадный набор.
С булькающей покупкой под мышкой, в отличном настроении пришагал Добродеев в особнячок, что приютился на углу улицы Дружбы народов и Фалалеевой протоки — узенькой и тенистой, неровно замощенной булыжником улочки, сбегавшей вдоль дачных участков к купальням и городским пристаням.
— Н-но и денек сегодня: с утра двадцать восемь градусов, и все выше нуля! — весело заговорил Кузьма Петрович, заходя через террасу в комнату. — О, да у дочурки, оказывается, ранний гость! Привет, привет передовой молодежи!
Кузьма Петрович привычно поцеловал дочь, здороваясь с Михаилом Громовым, задержал его руку в своей.
— Так вот он каков — свежеотмеченный бригадир Громов. В газете-то вы постарше выглядите. И побрюнетистей.
— А разве вы меня только в газете видели, Кузьма Петрович!
— Видеть — одно, приметить — другое. Живой пример: дочка моя, Екатерина Кузьминична, каждый день видит предостаточно молодых людей, а приметила, как выяснилось, только одного. Зато самого кучерявого.
— Папаша, — смущенно произнесла Катюша.
— Ну, ну, дело житейское.
Добродеев подошел к дочери, обнял ее, заговорил, обращаясь к Громову:
— Приветливая она у меня, в мать пошла характером, светлая память Марфуше. Не то что сынок, Андрей Кузьмич наш…
Полное, не по годам моложавое лицо Кузьмы Петровича утеряло благодушие, недовольно сощурились глаза.
— Впрочем, если не ошибаюсь, Михаил…
— Иванович, — подсказала Катюша.
— Хорошо — полный тезка Калинину. Помнится, дочка говорила, что и у вас с родителями вашими что-то…
Кузьма Петрович, не договорив, испытующе уставился в лицо Громова.
— Да. Было, — сказал Михаил.
— Что именно?
— Мой отец, Иван Алексеевич Громов…
Михаил напряженно замолчал.
— Он генерал — Мишин папа, — попыталась прийти. Михаилу на помощь Катюша. — И ветеран: в трех войнах участвовал!
— Вот как?.. Это похвально, — одобрил Кузьма Петрович. Правда, не очень кстати, потому что…
— А мы с отцом… расстались! — решительно и, пожалуй, вызывающе сказал Михаил. Помолчал и добавил уже тише: — И из университета меня отчислили тогда же. В шестьдесят седьмом году это произошло.
— Так, так, так, — несколько обескураженный таким самоуничижительным признанием, затакал Кузьма Петрович.
— Ничего страшного, — снова попыталась разрядить возникшую натянутость Катюша. — В прошлом году Миша опять стал студентом: только не Московского, а Казанского университета. Заочником. Он будет юристом.
— Юристом? — удивленно переспросил Добродеев.
— Вам, Кузьма Петрович, это не нравится? — напряженно передохнув, спросил Михаил.
— Незаметная профессия: что юрист, что экономист. Для одышливых людей.
— Я не про то.
— Видите ли, Михаил Иванович, — после небольшой паузы наставительно заговорил Кузьма Петрович. — С Иваном Алексеевичем Громовым я не имею счастья быть знакомым. Да и причины вашей размолвки мне неясны. Но я тоже — отец. Отец!.. А некоторые молодые люди — родитель слово, а сынок или дочка в ответ десять слов. Да каких! Вот над чем всем нам надлежит крепко задуматься. Ведь, если говорить откровенно, пожалуй, легче будет нашим ученым целиком хор Пятницкого в космос подбросить для культурной связи с марсианами или венерянами, чем… Эх, и цепкое слово — пережитки! И удобное, кстати сказать: есть на что списывать собственные огрехи. А вообще… Сорняк ведь чем силен: знает, паразит, что на земле советской ему пощады не будет, так он под землей укрылся. В корень пошел.
— Значит, с корнем вырвем! — упрямо пригнув вихрасто-лобастую голову, сказал Михаил. — Как кулака. Тоже ведь кое-кому казался несокрушимым.