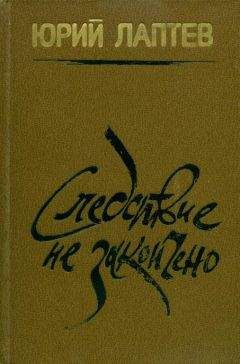— Твой дед, плотогон Алексей Алексеевич Громов, говорил, что «на счастье мужик репу сеял, а выросли лопухи!». А впрочем — хвалю! Вот только хорошо ли ты, Михаил, обдумал, кем тебе быть?
— Разве журналист — плохая профессия?
— Пустой вопрос: плохих профессий в нашей трудовой державе не существует. И в этом отношении у твоего поколения просто огромные преимущества перед нашим, тем не менее очень и очень многого достигшим! Но запомни одно: чем доступнее выбор, тем сложнее молодому человеку обрести свое истинное призвание.
И хотя в тот момент на эти слова отца Михаил ответил по-армейскому коротко — «понятно», истинное понимание пришло к нему значительно позже.
2
Более трех лет прошло после того поистине драматического события, но как сам Иван Алексеевич, так и Михаил, а уж про Алевтину Григорьев рту и говорить нечего — наверное, месяц ходила с подпухшими глазами женщина, — все эти годы семья Громовых вспоминала о том, что произошло, с неизбывной горечью.
Правда, незадолго до этого происшествия, в ответ на застольное рассуждение Михаила о том, что во «все времена и при всех правителях и правительствах истинные художники не только воспевали, но и клеймили!», — Иван Алексеевич сказал:
— С чужого голоса поешь, сынок. Да еще и петуха пускаешь!
И хотя Михаилу слова отца показались обидными, он ответил сдержанно:
— Для вас, папа, я, наверное, и в сорок лет буду выглядеть неоперенышем.
И в тот еще весенний, но какой-то уже по-летнему разморенный майский вечер «горлопаны батьки Феофана», как окрестили эту небольшую дружно-ершистую компанию сами участники поэтических межсобойчиков, собрались, по обыкновению, в однокомнатной квартирке «батьки» — аспиранта при кафедре советской литературы Феофана Ястребецкого, — где целую стену занимал старинный, резного дуба иконостас, унаследованный Феофаном от деда и переоборудованный под книжный шкаф, а вместо люстры над обширным столом нависало потемневшее от времени церковное паникадило.
Ястребецкий не случайно пользовался авторитетом среди не обласканных еще читательским признанием, но уже «возмечтавших» литературных дарований, коими богат факультет журналистики. Сын известного столичного адвоката и внук пользовавшегося в свое время еще большей известностью профессора богословия протоиерея Павла Ястребецкого, чьи лекции заучивались наизусть будущими пастырями человеческих душ, а вдохновенные проповеди «вышибали слезу раскаяния» не только у богобоязненных прихожанок храма Сорока мучеников, но и у закоренелых «во гресех» лабазников, Феофан оказался достойным продолжателем династии «златоустов». И в работе над диссертацией на тему «Закономерность декаданса в творчестве некоторых русских поэтов начала двадцатого века», и в спорах по обширному кругу вопросов литературоведения Ястребецкий не раз проявлял подлинную критическую остроту и цепкость. Да и цитатчиком был просто непревзойденным, что, как известно, в литературных дискуссиях имеет немаловажное значение.
Привлекла внимание уже не только университетской, но и более широкой литературной общественности и развернутая статья Ястребецкого, озаглавленная «Врачу, исцелися сам!», в которой Феофан обвинил одного из поэтов, уже прочно обосновавшегося в «когорте маститых» и опубликовавшего увесистый сборник под многообещающим названием «Раздумье о времени и о себе», ни много ни мало — в перепевности и дидактичности!
И хотя в защиту «поэтического мундира» от заушательства выступили с открытым письмом в редакцию два стихотворца старшего поколения, уже тот факт, что молодой критик «посягнул», еще более возвеличил Феофана в глазах литературной смены.
И не только неожиданность и острота суждений привлекала к нему молодежь. И наружность у Ястребецкого была примечательная: высокий, поджарый, на бледном лице нарисованными казались черные брови и аккуратно выведенные бачки и усики. «Помесь куафера с тореадором» — так самолично пошутил как-то Феофан над собственной внешностью.
Способствовал авторитету «батьки» и его неожиданно возникший бурный роман с известной исполнительницей эстрадных песенок Евдокией Шапо (по паспорту — Шаповаловой), «певуньей Авдотьюшкой», как представил Феофан своим друзьям певицу. И тут же предупредил:
— Только прошу — не влюбляться! Во-первых, право авторства священно, а кроме того — в вопросах любви я не Феофан, а Феодал!
Однако, несмотря на такое предупреждение, почти все «горлопаны» мужского пола смотрели и слушали «Авдотьюшку» вожделенно: уж очень притягательными казались парням и задорно-курносое личико с наивно-бесстыдными взглядами очень какой-то изменчивой расцветки, и не по возрасту («Авдотьюшке» было за тридцать) совсем девчоночья фигурка, и призывно-воркующий голосок: как и большинство модных эстрадных певцов, Евдокия Шапо не пела, а именно исполняла песенки, временами чуть ли не нашептывая слова в микрофон.
Влюбился в певунью с первой же встречи, как ему казалось серьезно и безнадежно, и Михаил Громов, чему, впрочем, способствовало и более предпочтительное отношение к нему самой певицы. «Вот вас, Мишенька, я хотела бы иметь своим пажем!» — шепнула она однажды Михаилу в ответ на его взыскующий взгляд. И в тот же вечер исполнила под аккордеон омузыченную одним из многочисленных композиторов-песенников «Поэзу» Игоря Северянина — «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж…».
Долго не мог уснуть Михаил после того вечера, проведенного в однокомнатной «келье батьки Феофана». В ушах снова и снова, как наяву, звучал бесовский голосок:
Королева просила перерезать гранат.
И дала половину
И пажа истомила.
И пажа полюбила — вся в мотивах сонат,
А потом отдавалась…
Разве уснешь!
Но еще больше взбудоражил Михаила поэтический межсобойчик, состоявшийся на другой день после возвращения Ястребецкого из двухнедельной поездки в Америку, при которой он сопровождал в качестве переводчика (Ястребецкий свободно владел английским языком) своего литературного босса — профессора Гуменникова. Вечер начался с краткого, но впечатляющего рассказа о стране непостижимых противоречий, где самые высокие достижения научной, технической и бытовой культуры уживаются с «идеологической и национальной поножовщиной», — таким резюме подытожил Феофан свои впечатления.
После «официальной части» радушным хозяином было выставлено такое угощение, после которого «разогревшимся» парням показалось поистине вдохновенным исполнение «Авдотьюшкой» трех песенок, на этот раз из репертуара дореволюционных шантанных див: умела Евдокия Шапо раскрыть душу песни. И не только вокалом, а и соответствующими игривому содержанию телодвижениями.
А я пою
И всем дарю —
Миг возбужденья и услады!
Бурный успех певицы отметили еще двумя бутылками «плиски».
А в первом часу ночи, когда все гости, за исключением «Авдотьюшки» и Михаила — ну, никак не мог решиться парень на «до свиданья», — разошлись, изрядно захмелевший Феофан извлек откуда-то из недр иконостаса небольшую книгу, на лакированной суперобложке которой была оттиснута Спасская башня Московского Кремля, обрамленная витиевато выполненной надписью: «О чем звонят кремлевские куранты».
А в предисловии к этому сугубо целенаправленному сборнику было сказано, что два очерка и два фельетона позаимствованы «из советских журналов», а все остальные материалы «любезно предоставлены нашему издательству известными литераторами, проживающими в Советской России».
— Книжица, конечно, пахучая, — сказал Феофан, небрежно листая сборник, — однако нужно признать, что строчат эти литподенщики с довольно точным прицелом. И хотя от всех любезно предоставленных подпольными литераторами статеек разит, почти в каждой среди навозной кучи дешевого вымысла можно обнаружить зернышко критической правды.
— Правды? — недоверчиво переспросил Михаил.
— Ну, во всяком случае, правдоподобия. Вот, к примеру, очерк «Принято единогласно», в котором описывается отчетное собрание в коллективе колхоза «Красный пахарь». Пасквиль, конечно, но написать такое мог только борзописец, проживающий или проживавший до недавнего времени по соседству с нами. И начинается этот опус прямо как передовица из областной газеты…
— Ну, Фео-фан! — недовольно протянула «Авдотьюшка» и, изловчившись, захлопнула книгу в руках Феофана. — Неужели ты не понимаешь, что нас это ни капельки не интересует. Верно, Миша?
— Да, да. Конечно, — поддакнул Михаил поспешно. Впрочем, не очень уверенно.
А уже уходя сказал в передней провожающему его хозяину: