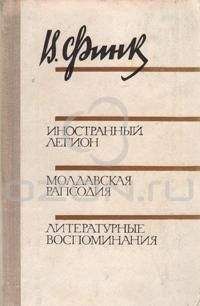Матрос что-то кричал на своем языке, но недолго: ему было неинтересно привлекать внимание палубы, потому что в трюме у него была припрятана контрабанда. Он пихнул Антошку назад, в мешки, загородил его и дважды в день молча приносил ему еду — скользкие макароны. Антошка не знал, что происходило в мире, покуда сам он торчал в трюмной тесноте. Он не знал, какой был день, когда матрос выбросил его на берег, и на какой именно берег его выбросили. Его арестовали в порту через полчаса и отвели в полицию. Так как он ничего не понимал и говорил на непонятном языке, то вечером его избили. Продержав неделю, его куда-то повели по суматошливым улицам. Солнце палило, мчались автомобили, летели извозчики под полотняными балдахинами, и во множестве маршировали солдаты. Антошка не знал, ни в каком городе, ни в каком государстве он находится, он не знал, куда и зачем его ведут.
Но слезы брызнули у него из глаз, когда на доме, к которому его подвели, он увидел вывеску с двуглавым царским орлом. Антон был малограмотен, но по-печатному кое-как разбирал. Он не знал, что значит написанное на вывеске слово «консульство». Да это и не важно ему было! Важны были стоявшие рядом слова: «Императорское российское». Он сразу вспомнил Россию, далекую, любимую, понятную Россию.
Антошку принял нарядный господин в белом костюме.
— Ты что же, с-сукин сын?! — сказал господин по-русски, и Антошка, обливаясь слезами, упал на колени.
— М-мерзавец! — еще сказал господин и больше уже не смотрел на Антошку, который рыдал и что-то лепетал.
Господин стал разговаривать на непонятном языке с людьми, которые привели Антошку, и наконец удалился.
Антона отвели назад, в каталажку. Он пробовал разговаривать со своей стражей, но его не понимали. Антон раздражался, кричал, пел, свистел, ругался по матери, молился богу и плакал. По вечерам его избивали. Антон отупел и стал молчать. Так прошло десять дней.
И вот его посадили в поезд.
Его посадили в поезд, привезли в другой город и прямо с вокзала доставили в мощеный двор, в глубине которого стоял красивый, большой дом.
Из дома вышел осанистый, плотный барин в бородке.
— Ты ж кто, собственно, бгатец, такой? — спросил барин по-русски. — А? Из каких будешь?
— Саратовской губернии, Балашовского уезда, Великоовражской волости, села Малые Овражки, Балонист Антон Иванов, — вытянувшись в струнку, отрапортовал Антошка и тотчас громко прибавил: — Виноват, ваше высокородие.
— Ну что ж, бгат Антон, — медленно сказал барин, — ты того… догоняй! Спеши! Уже все отпгавились… Сегодня двадцать пегвое августа, как газ сегодня начали пгинимать иностганцев… Догоняй! Тоже поступишь!
— Поступлю, ваше высокородие?! Возьмут меня? — чуть не рыдая от радости, спрашивал Антон. — Заставьте бога молить, барин. Неужели возьмут?
— Ну, почему ж тебя не взять? Ты здогов?
— Так точно, здоров.
— Ну, в чем же дело? Значит, иди! — обнадеживающе сказал барин.
Хотя Антошка не знал, куда именно надо идти, он все же сорвался с места, но тотчас вернулся назад, вытянулся перед барином по-солдатски и гаркнул:
— Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!
— Ну, ступай! — добродушно улыбаясь, сказал барин. — Хвалю.
— Р-р-рад стараться, ваше превосходительство! — гаркнул Антон громче прежнего.
Выдержав небольшую паузу, он позволил себе почтительно задать барину вопрос:
— А куды примут, ваше превосходительство? На какую работу?
У барина вытянулось лицо.
— На габоту? На какую габоту? Да ты, дугак, что, белены объелся? Ты откуда свалился? С Магса?
Барин смотрел на Антошку с омерзением. Затем он повернулся и вошел в дом.
Антошка стоял совершенно потерянный, не соображая, что сказал ему барин и почему рассердился.
— Идемте, идемте! Здесь, в посольстве, больше нечего оставаться, — сказали Антону по-русски двое молодых людей, вышедших из бокового флигеля.
Антошка бросился к ним. Молодые люди спешили, они почти бежали. Побежал и Антошка. Молодые люди не понимали, кретин ли этот парень или валяет дурака, когда спрашивает, в каком царстве они, все трое, сейчас находятся, где можно здесь определиться на работу и куда они так спешат. Антошка надоел им. Когда они очутились на громадной площади, которую до отказа запрудил народ, стоявший в шеренгах очередей, молодые люди пихнули Антона в одну шеренгу, а сами юркнули в другую, подальше. С соседями Антон разговориться не мог — они не понимали его. Одним ухом ухватил он обрывки русской речи.
— Нет, не Петербург будет нынче, а Петроград, — говорил кто-то.
Антон кинулся к землякам, но они уже исчезли в толпе.
Шеренги подвигались вперед довольно быстро и вскоре вошли за решетку двора, затем внутрь здания. Здесь Антошка делал то же, что другие: он разделся и дал себя осмотреть и измерить. Его похлопали по плечу и выпихнули под колоннаду. Флегматичный красавец писарь с усиками, сидевший за канцелярским столом, стал забрасывать его вопросами на непонятном языке. Антон тыкал ему в руки свой засаленный паспортишко, но тот отказывался и все продолжал задавать Антону вопросы. Антон жестикулировал, клялся, хватал себя за грудь, но из всего, что он произносил, писарь понял только слово «Петроград» и, равнодушно вписав его пять раз в матрикулы Антошки, сунул ему франк двадцать пять сантимов подъемных денег на выезд в полк, в город Блуа.
Так саратовский крестьянин Антошка, Антон Иванов Балонист, поступил добровольцем во французскую армию и был зачислен во второй полк Иностранного легиона под именем и фамилией Петроград Петроград. Так проделал он поход.
Так и погиб он, выходит!
— Ну, что ж! — сказал наш новый писарь Аннион. — В чем дело? Значит, убит. Раньше кормил вшей, теперь будет кормить червей! Так и запишем. Смешной был тип. Одно имя чего стоит — Петроград!
2
Прошло пять дней.
Санитар Сапиньель пробегал по двору эвакуационного госпиталя в Клерьер, когда где-то, не очень далеко, протрещал ружейный выстрел. Пуля шлепнулась в ворота госпиталя.
— Это что же такое? — изумился Сапиньель.
Раздался еще один выстрел, и санитар почувствовал боль в руке. В первую минуту он подумал, что его ударили, и даже выругался, но поблизости не было никого, к тому же на рукаве халата появилась кровь. Сапиньель понял, что получил пулевую рану. Это было чересчур…
В тыловых учреждениях — в госпиталях, лазаретах, штабах, канцеляриях, обозах и интендантствах — люди иногда относятся сочувственно к чужой крови, но от вида своей собственной они совершенно безумеют. Рана Сапиньеля оказалась пустой царапиной — пуля едва задела героя. Однако не только сам Сапиньель поднял необычный вопль, во всем лазарете, в штабе коменданта гарнизона и в канцелярии обоза эта загадочная стрельба и ранение санитара вызвали страшный переполох. Все забыли даже о многочисленных тяжелораненых, которые после сражения валялись в Клерьер без помощи шестой день.
Тыловики не любят осложнений. Тотчас все было поставлено на ноги.
Кто смеет стрелять в десяти километрах от фронта, к тому же в госпиталь?
Во все стороны полетели гонцы, заработали полевые телефоны, штабные стали говорить, что нужно сжечь дотла такую тыловую деревню, где нет безопасности, они требовали расследования, возмездия, беспощадности.
В самой деревне расследование не дало ничего. Деревню переворошили, как скирду соломы, — виновных не нашлось.
Начальник гарнизона майор Росс не унимался.
— Найти во что бы то ни стало! — кричал он.
Кто-то из обозных обратил внимание на то, с чего следовало начать, а именно — что пули прилетели не из деревни, а со стороны леса, по ту сторону которого лежал фронт.
Тогда майор приказал снарядить сборные патрули в лес. Я попал в патруль. У опушки сержант разбил нас на группы.
Со мной был пожилой туарег Мессауд из первой роты.
Углубившись в лес метров на сто, мы обнаружили небольшую полянку. У горелого пня валялись стреляные гильзы. Выходит, мы сразу напали на след стрелка.
Гильзы были, однако, не нашего образца. Мессауд быстро подобрал их и положил в карман. Одну он показал мне. Так и есть, клеймо германское!
«Вот это здорово так здорово! — подумал я. — В нашем тылу погуливает немец и развлекается стрельбой по нашему госпиталю?!»
Я не обратил внимания на то, что с данного места ни госпиталь, ни деревня не видны: Клерьер лежал в лощине, по ту сторону дороги, а дорога была скрыта невысоким, но густым кустарником.
На земле, по-весеннему рыхлой, были видны свежие следы.
— Одна след наша! — сказал Мессауд, тыча пальцем в отпечаток французского армейского башмака, подбитого крупными гвоздями. — Наша мусье ходи, франк.
Загадка осложнялась. Я быстро пошел по следам. Они вели в чащу. Едва прошли мы шагов триста, как Мессауд насторожился. Вытянув руку и делая мне знаки молчания, он бросился наземь и приложил ухо к земле.