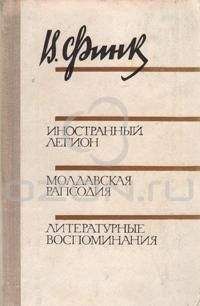«Вот это здорово так здорово! — подумал я. — В нашем тылу погуливает немец и развлекается стрельбой по нашему госпиталю?!»
Я не обратил внимания на то, что с данного места ни госпиталь, ни деревня не видны: Клерьер лежал в лощине, по ту сторону дороги, а дорога была скрыта невысоким, но густым кустарником.
На земле, по-весеннему рыхлой, были видны свежие следы.
— Одна след наша! — сказал Мессауд, тыча пальцем в отпечаток французского армейского башмака, подбитого крупными гвоздями. — Наша мусье ходи, франк.
Загадка осложнялась. Я быстро пошел по следам. Они вели в чащу. Едва прошли мы шагов триста, как Мессауд насторожился. Вытянув руку и делая мне знаки молчания, он бросился наземь и приложил ухо к земле.
— Близко! — шепнул он мне, вставая. — Два люди!
Держа винтовку наперевес, Мессауд стал неслышно продвигаться вперед. Я шел за ним.
Вскоре мы сквозь кусты увидели немецкого солдата в бескозырке, с красным крестом на рукаве и двумя винтовками через плечо. Он сидел на поваленном дереве, к нам спиной.
Мессауд тотчас молча вскинул ружье. Мне пришлось пригрозить ему штыком, чтобы заставить отказаться от выстрела. Мы стали подкрадываться. Шумел ветер, и немец не слышал наших шагов. Я решил воспользоваться этим и взять его живым. Подойдя к нему шагов на пять, я крикнул по-немецки:
— Стой! Руки вверх!
Немец вскочил и обернулся. Увидев нас и наши наведенные винтовки, он застыл, мертвый и немой от испуга. В ту же секунду рядом с ним вскочила с земли другая фигура. Но на сей раз окаменеть пришлось мне: это был Петроград. Он стоял, выдвинув голову вперед. У него подгибались колени. Глаза были мутны. Даже испуг не просветлил их.
— Петроград! — воскликнул я обрадованно. — Тебя как сюда занесло? Мы уж по тебе свечку ставили!
У немца испуг прошел раньше, чем у Антошки. Видя, что я отвел ружье и не только не собираюсь стрелять, но даже обрадованно хлопаю Антошку по плечу, немец быстро успокоился. А Петроград долго еще ворочал глазами, покуда наконец обрел дар речи. Он спросил сбившимся голосом:
— Игде мы, слышь? Куда попали?
У Петрограда и его странного спутника лица были серо-бледные, носы и губы синие. Оба изнемогали. Оба имели вид людей, опустошенных усталостью, голодом и страхом.
— Игде мы, слышь? — повторил Антошка. — Куды попали? Которое тут войско стоит? Свое? Али плен?
Немец давно скинул ружья с плеча. Он прислонил их к дереву, а сам старался стоять в позиции «смирно», хотя и у него подкашивались ноги.
— Садись, Петроград, — предложил я, — отдохни! Не плен здесь, а свои. В свой полк попадешь.
— В свой, говоришь, полк? — переспросил Антон безразличным голосом. — Лежион? А?
— Да, в Легион! Сядь! На, пей!
Я усадил Антона и дал ему пить из своей баклаги. Антон пил вино жадно, у него засветились глаза.
А Мессауд стоял растерянный: он не понимал, почему наш же, французский солдат, обнаруживший немца раньше нас, до сих пор не убил его, почему немца не убиваю я и почему даже не видно никаких к тому приготовлений.
— Моя буду бош голова резать, — предложил он мне, степенно оглаживая свою длинную бороду.
— Подожди, Мессауд, — сказал я, — пока не надо.
Мессауд не соглашался:
— Как не надо? Зачем не надо? Война! Надо немцу купэ кабэш делать, — убеждал он меня полушепотом.
— После, после, Мессауд! — сказал я, чтобы отделаться. — После!..
Мессауд, ворча, отошел в сторону.
Петроград сделал из баклаги еще несколько глотков, оторвал ее от пересохших губ и протянул немцу.
— На, фрицка, пей! — сказал он, проглатывая свой последний глоток и глубоко вздыхая.
Немец жадно прильнул к горлышку.
— Кто он? — спросил я.
— А кто его знает?! Так, приблудный. Шесть дён по лесу вместе блукаем, ходу ищем. Тоже и он свою часть потерял, видать…
Больше Петроград объяснить не мог ничего — сил не было.
Я обратился к немцу.
От него я узнал, что во время сражения он, по должности санитара, бегал по плато, подбирал раненых и переносил их на перевязочный пункт. В лесу он был оглушен снарядом и упал. Он не знает, сколько времени пролежал. Было темно, когда он очнулся. Сражение кончилось. Кругом было тихо. Он хотел добраться до своих, но не знал направления. Пошел наугад и скоро услышал голоса. Но это были французы. Тогда он пустился обратно, но заблудился в лесу. Усталый, он упал и заснул. Проснувшись утром, он увидел на траве, почти рядом с собой французского солдата, который навел на него ружье.
— Это был вот он, — сказал немец, показывая на Антошку. — Возле меня тоже оказалось ружье на земле. Я его схватил. Так мы и лежали с французом друг против друга со взведенными курками. Потом я сказал ему, что нас здесь только двое и мы не должны друг друга убивать, и бросил ружье наземь. Тогда он тоже бросил ружье наземь. Потом мы сели рядом и закурили. Он имел свой табак, а я свой. Я разговариваю с ним, а он не понимает. Я говорю: «Не надо убивать друг друга. Лучше, говорю, пойдем вместе. Отведем один другого в плен. Куда попадем…» А он ничего не понимает по-немецки. А я по-французски не понимаю.
Внезапно немец разозлился:
— Где ж мне по-французски уметь? Я не обер-лейтенант какой-нибудь. Я огородник! Из Саксонии! Огородник! Вы понимаете? Из Саксонии!
У немца глаза налились злобой и сжались кулаки. Он стал бешено кричать на меня. Но кричал он только одно:
— Из Саксонии! Из Саксонии! Из Саксонии!
Это былю то страшное исступление, хорошо знакомое каждому окопному жителю, когда разум больше не помогает человеку. Измученный голодом, вшами и грязью, оглушенный усталостью, пьяный от пальбы, стоит человек в тяжелом самозабвении. Его сотрясает последняя, смертная злоба. Он протестует против страшной жизни, в которую брошен. Он протестует, жалуется и грозит. Но разум не работает, в разуме заедает что-то, разум дает осечку за осечкой, и с уст срывается какая-то чепуха, совсем не то, что надо было бы сказать.
— Из Саксонии! Из Саксонии! — то повышая голос до рычанья, то понижая его до хрипа, повторял немец, грозя мне винтовкой.
— А теперь можно? — робко спросил Мессауд. Он счел момент подходящим, чтобы наконец выполнить то, что полагал своей основной задачей. — Теперь можно ему купэ кабэш делать? — спросил он, многозначительно обводя правой рукой вокруг шеи.
Мне удалось опять остановить его усердие. К великому изумлению Мессауда, я не только не убил немца, но даже положил ему руку на плечо.
— Садитесь! — сказал я немцу. — Саксония хорошая страна. Успокойтесь!
Я дал ему табаку. Он успокоился сразу, так же внезапно и тяжело, как вспылил. Он не заметил, как я забрал оба ружья. Мы все сидели на пнях и курили. Блаженное состояние стало охватывать обоих бедняг.
— Он смешной, этот парень, — сказал немец, показывая на Антошку. — Представьте себе, он все время тыкал себя в грудь и повторял: «Я рюсс, рюсс». Что это значит? Я раньше подумал, что это он выдает себя за русского. Но ведь мы на французском фронте? Не правда ли? Кроме того, я видел русских солдат на картинке — у них не такая форма. Я говорю ему: «Врешь, ты французэ». А он все свое: «Рюсс, рюсс…» Чудак какой-то!
Немец уже добродушно улыбался и похлопывал Антошку по плечу.
— И чего он там лопочет? — спросил Антошка.
— Да вот, — пояснил я, — не понимал он, говорит, что ты русский.
— Так и не смекнул, голова еловая? — пожимая плечами, сказал Антошка. — Ишь ты серость! А я ему говорю: мол, гляди, фриц, я не франсэ муа, компренэ? Муа рюсс. А он, сукин сын, только глазами хлопает. А он кто? Немец? А? То-то! Я-то небось догадался. А ведь, поди, спрашивал его все время: «Ты, говорю, кто будешь? Туа, говорю, бош?» Не понял. «Туа, говорю, герман?» Опять ни в рот ногой. Сказано, серость!
Антошка рассмеялся.
— А ведь и я-то его не сразу признал. Думал, тоже француз какой. Кто их разберет? Полков немало в атаку выходило, и форма-то ведь у всех разная. А только он по-нашему, по французски, не понимает. Гляжу, у него и прием другой. Не так он винтовку берет, как мы. Да и винтовка у него другая. Ну, подумал, может, союзник какой, англиец, или, как бы сказать, итальян? Кто их разберет? «Ты, говорю, какой веры?» Не понимает. «Крещеный?» — говорю, а сам крещуся. Гляди, и он крестится. Да только не по-нашему. Ну, думаю, пущай не по-нашему, а все своя душа, крещеная. «Ну, говорю, давай вместях дорогу искать, куды придем, там и будем». Да только куды тут идти? Из лесочка видать — на поле покойников навалено, чисто Страшный суд! И все больше арапы. Страсть сколько их, арапов, навалено! Да как тут пойдешь, когда день светлый? Застрелют, как птичку! Ну, сидим, ждем, вечера дожидаем. Жрать охота, да нечего. Так и заснули. Весь день, веришь, проспали. Вечером проснулись, доползли до покойников, понабирали у них жрать чего — хлеба взяли, сыру у кого было, сахару, табаку да вина, сколько могли, столько выпили. Так что, правду сказать, середь самих покойников сидели, середь арапов этих, да что отбирали, тут и ели, тут и пили — невтерпеж было, — да у них и заночевали. Ох, и страшно было!.. Уж они смердят, прямо мертвой смердью смердят, а куды ты от них подашься, когда неизвестно, которая сторона наша? До ночи мы так и просидели, опять жрать чего набрали, да вина, да назад, в лесок, подались. Откуда ушли, туда и пришли! Всю ночь бродили, никуда не прибрели. Лес да лес, и все тут! Опять сели закусывать. Вижу, неспособный он до вина, фрицка-то, не практикован. «Ты ж кто будешь? — опять спрашиваю. — Не кайзер ли Вильгельм, вражий дух?» — «Я, я!» — говорит. Значит, признает, что немец. Ну, думаю, какую мне с ним руку держать? Убить его, что ли, чтоб он в другой раз на нашу Расею не нападал? Или не убивать? Думал, думал, уж совсем было наладился штыком его под зебры ахнуть, да не смог. Два дни с тою думкою ходил, уж ему самому сказал: мол, молись, фрицка, богу, потому не должен ты от меня живой уйти! И так это мы идем лесом и идем, и думаю я свою думку, и идет он впереди меня, понимаешь. Ну, снял я с плеча винтовку. Кончу его, думаю. А на душе сумно. Игде я? — думаю. Почему не на своей земле погибаю? Почему не свою шинельку таскаю? За кого складываю голову свою молодую? Эх! Сел это я на пенек, вспомнил Малые Овражки, — слыхал ты про Малые Овражки?.. Не слыхал? Я родом оттуда. Ну, вспомнил, да и заплакал, понимаешь. Очень уж в грудях защемило. А он, фриц-то, как увидел, значит, что я плачу, так и кинулся ко мне Да все по-своему лопочет: «Вас? Вас? Вас?» Уж он мне и табак свой суёт, и вино тычет, да все твердит свое — «вас» да «вас». «Эх, фриц, браток! — говорю. — Кайзер ты Вильгельм, голая душа! И вас, говорю, и нас одним горем кормили, одной бедой поили. Не хочу я тебя убивать, понимаешь, — и крышка!» И как сказал я это, так сразу у меня на душе облегчение сделалось. Вроде как пасха у меня в грудях стала, когда увидел я, что не должен фрица этого убить. «Идем, говорю, браток, подадимся далее. Куда придем, там будем. До ваших дойдем — ты меня в плен сдашь. До наших — я тебя сдам. А то хорошо бы замирение сделать, понимаешь, чтоб совсем, значит, всю эту шарманку в кучу свалить, войну эту самую». Сказал это я ему, и пошли мы далее. Да вот…