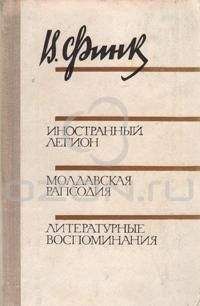Уркад увел роту. Лум-Лум не переставал ворчать. Он проклинал Эмиля. Тот шагал в другом ряду и не слышал, а мне Лум-Лум надоел.
— В конце концов, чего ты от него хочешь, старый бурдюк? — сказал я. — Он парень неплохой, и у него были добрые намерения. Но не удалось! Что ж делать, быть может, рота еще осиротеет в другой раз. Будем надеяться.
Однако у Лум-Лума были свои взгляды.
— Ты меня не учи! — возразил он мне холодно и довольно резко. — Я и без тебя знаю, что добрые дела удаются реже, чем злодейства. Но я терпеть не могу болтунов. А сколько их в Легионе, великий боже! Один приходит и начинает похваляться: «Я выбью зубы сержанту». Другой говорит: «Я подколю капитана». Потом приходит третий: «Я убью командира полка». И при этом они клянутся пречистой девой и деревянной рукой капитана Данжу, который погиб в Камероне. И товарищи верят им и надеются. Потом настает решительная минута — и у всех этих сопливых бахвалов дрожат колени, как у хозяйской дочки, которая в первый раз возвращается от пастуха… В Легионе, я тебя предупреждаю, Самовар, слишком много таких! Слишком много! Гораздо больше, чем надо!
После этой ночи Эмилем ван ден Бергэ овладело состояние, близкое к безумию. Он почти перестал понимать, что ему говорят.
Однажды он подошел ко мне с каким-то особенным выражением лица.
— Пойми меня, рюско! — сказал он сдавленным голосом. — Это потому… Ты понимаешь, я католик. Пойми это! Я не смог! Потому что я католик!
Мы не заметили, что поблизости сидел Лум-Лум. Он оборвал Эмиля:
— Ха! Католик! Он католик! Да все люди на свете католики! Других не бывает! Именно католики платят нам су в день и дают харчи за то, чтобы мы убивали католиков!
— Почему же ты требуешь, чтобы именно я убил капитана? — воскликнул Эмиль с несвойственной ему резкостью, сквозь которую были, однако, слышны слезы. — Убей его сам!
— Если бы я хотел это сделать, — ответил Лум-Лум, — я бы отсчитал до трех и сделал бы. Но мне это не нужно. А ты не смог… Вот я и говорю — ты меня слышишь, Самовар? — я говорю: кто не убил врага, тот предаст друга. Запомни это! И бойся, Самовар, таких. Это тебе сказал я, Пьер Бланшар, которого зовут Лум-Лум.
Он ушел. Эмиль больше к разговору не возвращался. Он еще глубже погрузился в меланхолию, еще больше стал отходить от нашей общей жизни. Его состояние становилось все более и более тревожным.
Однако упросить ротного фельдшера, чтобы Эмиля эвакуировали по случаю душевного расстройства, мне не удавалось: эвакуировали только буйных.
— Еще не поспел! — говорил фельдшер.
Мне стоило труда сдерживать Лум-Лума, который не переставал донимать беднягу. Я отдавал Лум-Луму свою порцию водки, лишь бы он перестал обзывать Эмиля смычком от контрабаса, поганой метелкой, сортирным сторожем, тухлой рыбой, богородицей и всякими другими неожиданными словами, которые неизвестно откуда приходили ему в голову, когда он бывал слишком трезв.
Вдруг Эмиля вызывают в канцелярию. Эмиль встревожился.
— Увидишь, — сказал он мне упавшим голосом, — это какой-нибудь краб донес на меня, что я грозился прикончить капитана!
Он ушел бледный.
Я тоже был неспокоен.
Мы ошиблись. В канцелярии писарь скомандовал Эмилю «смирно» и поздравил его с орденом за спасение ротного командира. Приказ в обычных выражениях отмечал храбрость, самоотверженность и преданность легионера второго класса ван ден Бергэ, который под неприятельским огнем спас жизнь командиру роты капитану Персье. Писарь тут же вручил Эмилю орден на красно-зеленой ленточке и выдал ему пять франков.
Все это я узнал уже позднее, от писаря. Он прибавил, что ван ден Бергэ стоял как глухонемой, он как будто ничего не слушал и не произнес ни слова.
Однако в роту Эмиль принес десять литров красного вина.
Это было в Шампани. Мы стояли в Пуйоне. Взвод был расквартирован в башне разрушенного старинного замка. Много полков прошло здесь до нас. Они изломали и сожгли всю мебель, все убранство. Нам достались только совиные гнезда, окровавленный бурнус конного алжирского стрелка и груды битых бутылок.
Рота только что пообедала. Был час покоя. В такие часы старые легионеры расстилали перед нами цветистые и суровые повести своей жизни. Лум-Лум вспоминал пески африканских походов, Делькур рассказывал о своих любовных приключениях в Тонкине, Кюнз описывал, ругаясь и ворча, свои драки в сайгонских кабаках. Горячие страсти возникали перед нами в такие часы, видения далеких стран носились над нашими кострами и в хмурой сырости наших укреплений.
В этот раз Адриен рассказывал про какую-то толстую мулатку, с которой он путался в Мостаганеме.
Было жарко. Легионеры, полураздевшись, лежали на нарах вверх животами, хохотали, переваривали пищу и хотели пить.
Именно в эту минуту и ввалился Эмиль со своими десятью литрами. Он поставил их на нары, быстро, хотя и довольно бессвязно, рассказал об их происхождении и с деланным весельем стал позвякивать по ним своим орденом.
— Пропиваю шкуру капитана! — сказал он, заискивающе глядя на нас и пытаясь скроить улыбку. — Кто желает? Подходи! Шкура капитана Персье!
Никто, однако, не двигался.
Мне было жалко Эмиля.
— Выпьем! — предложил я, чтобы поддержать его.
Однако никто не откликнулся. Ни на Эмиля, ни на его вино никто не смотрел. Лум-Лум пытался что-то съязвить насчет того, что вот, мол, одна шкура пропивает другую, но и на это никто не обратил внимания.
Эмиль сидел возле своих бутылок и ждал. Сам он не пил. Его бесцветные глаза были устремлены в одну точку. Товарищи не хотели его вина. Это было последнее, что он понял.
Прошла минута. Адриен продолжал рассказ.
Внезапно бутылка взвилась в воздухе и, описав параболу, ударилась в стенку и разбилась. Вторая полетела ей вдогонку.
Эмиль стоял посреди помещения серый, слюна текла у него изо рта. Он рвал на себе куртку левой рукой, а в правой держал литр и размахивал им. Я вырвал у него бутылку. Он повалил меня и рыча схватил новую.
— Он все вино разольет! — сказал Кюнз. — Уберите бутылки.
Эмиль метался из стороны в сторону, рыча, хрипя и воя. Все-таки мы перехватили его — Лум-Лум, Бейлин и я, — но даже втроем не могли удержать. Он вырвался и пустился вскачь по постелям. Кто-то сбил его с ног ударом кулака по голове, но он быстро вскочил снова и, выхватив штык из ножен, пустился на меня с криком:
— Теперь вы не уйдете от меня, господин капитан! О господин капитан! О мой добрый господин капитан!..
Мне удалось выскочить в окно. Пробегая по двору замка, я еще слышал крики и стоны Эмиля.
Фельдшер играл в карты. Он сразу догадался, что происходит в башне.
— Ван ден Бергэ? — спросил он.
— Да!
— Готов?
— Кажется!
— Что ж, в добрый час! Связали?
— Не знаю.
— Ладно, пойдем посмотрим…
Оп не спеша раскурил трубку и позвал санитаров.
1
В деле под Гэртэбиз мы были разбиты и понесли жестокие потери.
В нашей роте на перекличку построилось едва пятьдесят три человека.
— Смотри, — толкнул меня под локоть Лум-Лум, твоего земляка тоже нет, этого Петрограда!
— Неужели нет Антошки?
Его не оказалось и среди раненых.
Погиб, бедняга! Мне стало жаль его.
Свое странное прозвание Антон Балонист получил благодаря тому, что в его воинской книжке, во всех пяти графах, где записывается имя солдата, его фамилия, имя и фамилия каждого из родителей и место рождения, было пять раз повторено слово «Петроград».
В Иностранном легионе не требуется никаких документов при поступлении. Человек дает о себе сведения, какие сам захочет, и писарь заполняет все графы только с его слов.
Почему дал Балонист такие странные сведения? Когда мы спрашивали его, он пожимал плечами и, улыбаясь, говорил:
— А кто его знает… Так-то я Антошка… Балонист Антон Иваныч меня звать…
Антону было лет двадцать семь. Он лишь недавно отбыл воинскую службу где-то в Перми. Дома, в деревне, у него не было ни родных, ни кола ни двора, место пастуха у барина занял другой парень, и Антону по возвращении из полка оказалось нечего делать.
— Не заелся я там, — говорил Антон. — Два раза в поле переночевал, да и подался в белый свет.
Антон думал, что белый свет так уж велик и добра в нем хватит. Вскоре он убедился, что белый свет — тесная, голодная и сырая коробка и лежать в ней жестко.
С весны Антон работал в Одессе портовым грузчиком. Добра перетащил он на своих молодых плечах видимо-невидимо, но для себя едва хватало на хлеб, а на штаны и вовсе не хватило.
Антон слыхал, что якобы за морем иначе люди живут, «другой порядок имеют», и стал с жадной думой смотреть на корабли и волны. Пятнадцатого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года, укладывая в трюме итальянского грузового парохода «Чита ди Милано» мешки пшеницы, Антон приготовил себе среди них укромное местечко, где и загородил себя последним принесенным мешком в минуту, когда сирена гудела отход и грохотали якорные цепи. Три дня Антон питался черствым хлебом и огурцами, три дня голодал, все ожидая, когда перестанет бить волна и можно будет вырваться на берег, а на седьмой день Антон стоял без шапки и переминался с ноги на ногу перед смуглым матросом, который и сам не на шутку перепугался, неожиданно наткнувшись на него в трюме.