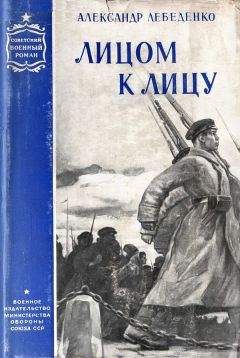И вот тогда встретился Алексею только что кончивший школу прапорщик Борисов.
Он объяснил Алексею, почему нет снарядов, почему во главе армии и правительства не те люди, почему терпит все это страна.
Воспитанный в традициях 1905 года, ущемленный неудачами войны, Борисов толковал события с той бесцеремонной непосредственностью, с какой тысячи радикально настроенных интеллигентов, разбросанных по армии, стихийно подкапывались под самодержавный строй.
Он уверил Алексея в том, что так будет не всегда, что есть люди, которые хлопочут об этом. Алексей вспомнил листовки на заводе и пожалел, что упустил случай узнать об этом побольше.
Еще больше рассказывал Борисов о книгах. Об этом он мог говорить целыми ночами. Алексей раскрыл ему свою тайну, как он искал книги о хорошей жизни, и ему не было стыдно, когда Борисов тихо посмеивался над его детскими заблуждениями. Он растолковал Алексею значение книг для человечества, этих сундуков, хранителей и передатчиков человеческой мудрости и опыта.
Для Алексея многое в его речах было открытием. Борисов давал Алексею книги по своему выбору и на стоянках, в мокрых лесах Полесья, занимался с ним и его товарищами арифметикой, физикой и русским языком. Когда пришел Февраль, большевики сказали солдату-батарейцу всю правду, и перед нею сразу побледнели и учебники, и рассказы Борисова.
Но у начала этого нового пути стояла в памяти Алексея складная фигура внешне спокойного человека, у которого он многому научился. Алексей не был избалован добрыми встречами. Сам Борисов и не подозревал, какое видное место занял он в жизни Алексея Черных.
Глава VI
ДОМ НА КРЮКОВОМ КАНАЛЕ
Шестиэтажный дом на Крюковом канале в зимнем солнце казался выставкой шлифованных плит розоватого гранита, мрамора, керамики, начищенной меди и зеркальных стекол во всю ширь декадентских окон.
Он был построен всего за три года до войны и получил одну из премий городской думы домовладельцам, чьи здания, по мнению отцов города, украшали столицу.
Студенты Института гражданских инженеров приводили сюда младших товарищей, чтобы показать им образец эклектической безвкусицы, с каким может спорить только дом богача Вавельберга на Невском, где архитектор приспособил черты фасада Палаццо дожей для удобства банковских фирм и фешенебельных магазинов. Может быть, эта критика была вызвана какой-нибудь фразой институтского метра, порожденной завистью к преуспевающему коллеге-практику. Как бы то ни было, создатель этого дома не считал его сооружение ошибкой. На одной из колонн он эффектно изогнул ромбовидную медную доску с указанием своего имени, отчества и фамилии.
Быть может, этот архитектор, строя доходный дом в эпоху развивающегося российского капитализма, не в силах был забыть величественные образцы дворцового и церковного зодчества и, не находя выхода своим творческим запросам, обратился к художественной контрабанде. Дом уходил ввысь гранитной стеной, украшенной балконами, несимметрично расположенными псевдоколоннами и окнами, декадентски раздавшимися вширь и оттого потерявшими свое устремление к небу, но увенчивался классическим треугольником, напоминавшим порталы старинных соборов Руана и Амьена. Парадный ход оформлением своим доходил до окон третьего этажа. Веером расходились здесь разноцветные стекла, бронзовые жгуты паучьими лапами убегали в крашеную жестяную листву. Зеленью ущелья отдавали как бы выцветшие от влаги изразцы входа, а вестибюль белизной плит оттенял готическую темную глубину потолка, к которому легкомысленно тянулись хрупкие, схваченные серебряными кольцами колонны. Лестница мягкими поворотами обходила лифт, и дорожки алого бархата с белой оторочкой показывали путь к квартире хозяина.
Если сойти с асфальтовой ленты, отгородившей дом от булыжной улицы, и отсюда взглянуть на фасад, можно легко заметить, какое внимание уделено было отделке бельэтажа.
Свобода форм и орнаментации достигала здесь своего предела. Здесь окна казались омутами холодного стекла. Орнамент кружевами тянулся по стене. Балконы соединялись глубокими проходами.
Своим появлением дом предсказывал быстрое и неудержимое развитие только еще застраивающейся набережной. Он как бы кричал в лицо прохожим: «Я — будущее этого города. Я — знак и символ его расцвета Время сотрет в пыль пятиэтажные коробки и приземистые дворцы дворянского века. На улицах и набережных встанут мои собратья, хранилища торжествующего капитализма и его жрецов».
Бельэтаж занимал хозяин, собственник крупного металлургического предприятия, удачливый биржевой игрок, акционер и член правления многих банков, Виктор Степанович Бугоровский.
Всякий, попадавший в квартиру Бугоровского, сразу чувствовал, что здесь живет настоящий, уверенный в себе миллионер. Уютная, строгая тишина большого достатка. Поднимающийся в ленивом сознании сторожевого долга тигровый дог. Лакей во фраке, анфилада парадных комнат, большие полотна строгого отбора, стены в штофе, пол в бобрике и ко всему — веселый, простой, жизнерадостный, чувствующий себя в этом храме богатства как рыба в воде хозяин.
В первый момент трудно было себе представить, что все здесь принадлежит этому маленькому, быстрому и изящному человеку с руками и ногами подростка. Но это только в первый момент. Встречая самого обычного гостя в передней, он собственноручно — два лакея отскакивали, как на резинке, — помогал ему раздеться, брал под руку и вел в одну из гостиных или к себе в кабинет, где можно было неделю, не утомляясь однообразием, рассматривать тщательно собранные раритеты и полки с иностранными изданиями в переплетах почти ювелирного толка. Подкупленный таким вниманием, гость уходил в уверенности, что на этот раз богатство попало в хорошие руки и уж если быть на свете богатым и бедным, то пусть богатые будут такими, как Виктор Степанович.
Жена не уступала ему в тихой ласковости и спокойствии. Она добрéла от года к году и осторожно носила тучное тело на маленьких, до странности худых ногах. Она не брала ничего в руки, а как бы прикасалась, трогала вещи, неуверенная в своих движениях. Она вышла за Виктора Степановича по любви. Память хранила букеты, бонбоньерки, поездки на лихачах по набережным замерзшей Невы, маскарады, масленичные балаганы. Виктор Степанович еще не был так богат и учился на доктора. Она, не раздумывая, сошлась с ним до свадьбы, они поженились, съездили в Остенде, и началась жизнь.
Мария Матвеевна легко вживалась в растущее богатство, подгребала его под себя, как наседка удобную кучу сена. Когда Виктор Степанович привел ее в совершенно отделанную квартиру нового дома — долго скрываемый сюрприз, — она взглянула на него счастливыми глазами, сказала:
— Я бы сама лучше не придумала, — села у окна и стала смотреть на улицу.
У Виктора Степановича были две дочери, Елена и Нина. Нина, любимица отца, была некрасива — большой рот, просвечивающие до пустоты глаза, но вместе с тем изящная фигура, настоящая модель для аристократического ателье, потому что именно на ней легко было наблюдать, что может сделать с самой обыкновенной женщиной искусство портного и куафера. Виктор Степанович наряжал ее уже с двенадцати лет, и Нине приходилось двоиться — девочкой в гимназии и барышней в гостиной.
Елена, старшая, была в мать лицом, свежая, необыкновенно красочная, но холодная, смотревшая на все в мире с высоты эстетической позиции, неизвестно как залетевшей в этот богатый, но совсем не чопорный дом. Ее комнаты были на отлете. У нее бывали только подруги, раз навсегда признавшие ее превосходство, и молодые люди, откровенно преклонявшиеся перед ее красотой. Отец относился к ней с горделивой, но и еще какой-то усмешечкой. Он называл ее то «наша краля», то «царь-девица». А мать слегка побаивалась дочерней властности. У Елены была одна страсть — живопись и картины. Она сама недурно рисовала, бывала в Академии, заглядывала в залы «Поощрения художеств» и однажды шутя, но так, что всем запомнилось, сказала, что выйдет замуж только за художника.
В великой наивности окруженной всеобщей лестью женщины Мария Матвеевна считала, что рост мужнего богатства — это и есть тот общий ход перемен, который называется жизнью. Строили новые дома, мостили улицы, прокладывали Великий Сибирский путь, появлялись новые моды, автомобили, какие-то смельчаки начинали летать на бамбуковых палочках, фанере и парусине. Все шло вперед согласным строем. Дела ее мужа были зеркалом всеобщего роста и процветания.
Когда ей подали парижское ландо — тоже подарок мужа, — она поехала по набережным, солнце заливало лица прохожих — разве не все радовались, как радовалась она?
На торжественном освящении завода говорили нарядно и важно. Старики рабочие преподнесли ей икону. Завод — это тоже было нужное и хорошее дело.