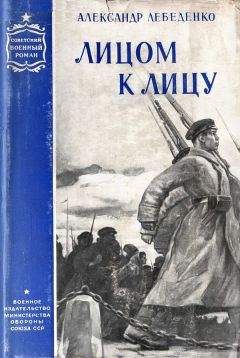Спиридон Севастьянов был человек неразговорчивый. Все слова, какие срывались с его белесоватых уст, относились непосредственно к делу. Человек он был не крупный, властью не избалован, но чаще всего прибегал к повелительному наклонению: «подь», «подай», «возьми», «да убери ты», и даже советы «знай помалкивай», «не лезь в пекло поперек деда» звучали как приказы. Впрочем, в армии он заслужил унтер-офицерские нашивки.
Шорник, наоборот, был говорун и философ. Он принадлежал к числу тех, кто считает: раз людям даны уши, то они и должны слушать, что говорят умные люди, в том числе и он, Фома Ильич Мясников. В состоянии подвыпития он мог обратиться с пространной речью к фонарному столбу, к одинокой иве над Волховом и даже к постовому городовому. Заметив, что Алексей смотрит ему в рот, он стал зазывать его вечерами на кружку чаю. Жил Мясников одиноко. Прислуживала ему сирота-племянница, косоглазая Грунька, смешливая и бесстыдная остроносая девчонка лет семнадцати. Чай он пил вприкуску из большой фаянсовой кружки с цветком, то и дело вынимая изо рта черными пальцами огрызок сахару и оглядывая его зачем-то со всех сторон.
С Алексеем он, не скупясь, делился нажитой за долгие годы мудростью. Бывал он в Петербурге, и в Москве, и с войском на Кавказе, но о людях, о городах говорить не любил. Говорил больше вообще, а люди и события существовали только как доказательства правильности его суждений. Слова текли у него споро, не спотыкаясь, слушалось легко и ничего не запоминалось. Только иногда изрекал он заковыристую «мудрость», которая задевала Алексея, потому что близко подходила к его собственным спутанным мыслям.
Больше всего говорил он о деньгах. Слово «рубль» не сходило у него с языка. Начинал он говорить о богатстве и о денежных людях со вкусом и многословно, а кончал со злостью. У самого Мясникова лишних денег за всю жизнь не было. А силу рубля узнал он в полной мере.
— И ты еще за ним напляшешься, — говорил он Алексею. — Покажи тебе целковый — ты небось на голове пойдешь.
— Ну! — отрицательно бурчал Алексей. — Вы тоже скажете…
— За его, проклятого, голову складывают.
— Нет, — мечтательно возражал Алексей, — рубль — он пустое дело. За бумажку — да голову…
Притаенным шепотом Мясников рассказывал о лихих и удалых людях, которые легки на руку и смелы на удар, которые «подружились с черной ночью» и смеются над законами и властями. Глаза его при этом загорались, и Алексею казалось, что эти удальцы — приятели Фомы Ильича и он боится выдать их, а потому озирается и смотрит за окно, не присел ли кто на завалинке.
Но таинственного в жизни Мясникова не было ничего. Досада на скучную, серую долю порождала протест глухой, шепотный. На дело не хватало ни силы, ни удали.
— Сто человек работают, а один ест. Вот как, — победоносно взирал на парня Фома. — У нас вот по деревням дуги гнут. А Савва Евстигнеевич Кушаков ездиют да скупают. У Саввы Евстигнеевича дом в Новгороде да дом в Москве… А рубль — он знаешь куда катится?.. Человек к человеку, а рубль к рублю. А иной за рублем гонится, штаны потеряет, а он верть — да к соседу в карман.
Но это было знакомое. На все лады говорили о деньгах в Докукине и в Новгороде, и это не останавливало внимания.
— А книжки как? — спрашивал Алексей.
— В книжках, брат ты мой, сила великая…
Алексей обрадовался.
— Только к книгам приступ не у всякого. Книги силу дают, а денег не дают. А сила без денег — все равно как дерево без яблок. И цвет богат, и тени много — а съесть нечего.
Алексей решил, что у Мясникова с книгами, как и с деньгами, не вышло. Но однажды Мясников подвел Алексея к платяному шкафу, раскрыл дверцы и с гордостью показал на кучу истрепанных книг, двумя горками лежавших по бокам от пары нарядных сапог на колодках.
Алексей стал первым читателем этой замечательной библиотеки. Здесь был роман Тургенева «Новь», «Повести Белкина», мысли мудрых людей Толстого, приложения к журналу «Нива», какой-то французский роман без конца. Все до корки прочел Алексей. Это тоже были «не те» книги, и опять не было видно «настоящих» книг.
А потом книги остались в памяти Алексея как мед деда Кирилла, как шум докукинского леса, как игры на реке с Васькой Задориным.
Фома Ильич пел октавой в хоре той церкви, которую посещали Севастьяновы. Когда хор замирал, как бы подстилая мягким ковром все звуки, растекался по церкви его небольшой, приятный и низкий голос. Он определил Алексея в альты. Севастьянов беспрекословно отпускал Алексея на спевки. Это было «божье дело». Но на панихиды и молебны разрешал ходить только по праздникам. Это — «для заработка».
Мальчики из хора были первые проказники, они рассказывали анекдоты, лущили семечки во время службы и сосали леденцы. О церковном причте они распространяли невероятные слухи. Они уверяли, что архиерей — блудник и пьяница. Они изводили регента и ссорились при дележе денег, полученных на свадьбах и погребениях. Они научили Алексея курить, звонко плеваться, ходить с вывертом и подмигивать девчонкам…
Когда представился случай переехать в столицу, Алексей не колебался ни одной минуты. Новгород был город тихий, мещанский, заросший травой, на зиму засыпаемый снегом. Алексей понимал, что за эти годы ничему не научился и ничего не приобрел. Лучшая жизнь была где-то рядом, но в Новгороде, как и в Докукине, не было к ней никаких дорог.
Но Петербург — это не Новгород. Это большой город, столица…
В юные годы не успевает увянуть одна надежда, как на смену ей распускает крылья новая…
Федорова теща разыскала Алексея проездом через Новгород и забрала его с собою по мимолетной прихоти, должно быть для того, чтобы показать свои возможности старой петербуржанки и жены заводского мастера.
Действительно, перчаточник Адольф Груббе, проживавший в одном из переулков у Сенной, согласился принять Алексея в качестве ученика. Сватья поселила Алексея неподалеку от мастерской у знакомой старухи с котом и лампадкой и решила, что она устроила человеческую жизнь ни дать ни взять как сказочная добрая волшебница. А перед Алексеем возник тяжелый вопрос — как прожить, если жалованье ему положено десять рублей в месяц, а пять он должен отдавать за постель и кипяток старухе.
Петербург был полон учебными заведениями, библиотеками, книжными магазинами, но именно здесь книга оказалась для Алексея за семью замками, и, попав в столицу, он, как бы мстя за такое высокомерное отношение, равнодушно проходил мимо витрин, уставленных книгами.
Но петербургские хозяева лучше новгородского слесаря-кустаря знали цену рабочему времени, и жизнь в столице навалилась на Алексея всей своей тяжестью, не оставляя сил для лишних движений и времени для размышлений.
Адольф Альфред Вольдемар Груббе, прежде чем допустить Алексея к перчаточному искусству, потребовал от него услуг обычного порядка. Для работы по дому и по поручениям парень соответствовал в большей степени, чем любая из шести девушек, работавших в мастерской. Впрочем, это продолжалось недолго, и все произошло из-за супа.
Хозяева и мастерицы обедали наверху, в мастерской. Готовилась же еда в кухне, этажом ниже. Алексею обед не полагался, но хозяйка наливала и ему большую тарелку супу, заправленного сметаной. Этот суп в большой дымящейся чашке Алексей проносил по скрипучей деревянной лестнице.
Если супа не хватало, Алексею давали немного второго. Вода, хотя бы и заправленная сметаной, плохо насыщала быстро растущего парня, и он пустился на хитрость. Он выливал часть супа под лестницу. Первого не хватало — и он получал второе.
Хозяйка бранила кухарку и приказывала готовить больше супа. Кухарка послушно доливала в котел воды, а Алексей отливал еще больше. Кухарка недоумевала, ссорилась с барыней и наконец поймала Алексея с поличным…
Федор поверил теще, что брат хорошо устроен, поверил и в то, что в разрыве с Груббе виноват кругом сам Алексей. Он резко посоветовал ему ехать обратно и Докукино, и Алексей решил взять судьбу в свои руки.
Казалось, город полон людьми, и все заняты, и все у дела. По улицам с утра до ночи спешили молодые и старые люди с корзинками, с кульками, с бочонками на голове. Были бы руки, а работа найдется.
Алексей ничего не сказал старушке. В те же часы по утрам он уходил из дому на бойкие торговые улицы. Он заходил в мастерские, магазины, прачечные, ларьки, пекарни. Чаще всего у хозяев не было нужды в работнике Ему отказывали пренебрежительно или даже грубо. Но работа в поле и в мастерской воспитала в нем терпение, которое не столько питается усилиями воли, сколько живет само по себе, не как доблесть, но как прочно приобретенное свойство. Иногда его спрашивали, имеет ли он рекомендации, кто его послал. В таких случаях он обрывал беседу и уходил или угрюмо молчал, покуда хозяин или приказчик не оборачивался к нему спиной. Если его спрашивали, что он умеет делать, он добросовестно, не обобщая в профессию, название которой могло бы звучать привлекательно, перечислял свои несложные и немногочисленные навыки. Он сам чувствовал, что это звучало неубедительно. Под вопрошающим, настороженным взглядом хозяина он готов был признать, что не умеет ничего.