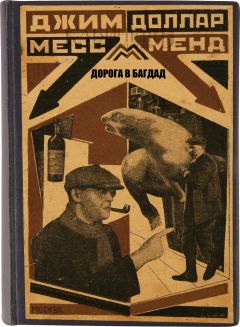— Все это мелочь и чепуха! — горячилась фигурка в коричневом платье с коротенькими волосами. Бледное личико с веснушками возле носа сияло. Это Кусе рассказывал Яков Львович, что в городе бестолочь, что так нельзя, это выходит не большевизм, а юмористика, и Куся ему возражала с горячностью: — Все это мелочь и чепуха! Надо ведь с чего-нибудь начать, а они откудова знают, с чего? Пускай себе хоть кверху ногами. Эка беда, две-три чашки покрали с подводы. Вы лучше подумайте, ведь они помогают сдвинуть с места весь мир, может сами не знают, а помогают!
Куся пришла к Якову Львовичу не для бесед, а по делу. Она принесла приглашение от комиссара финансов и наробраза, товарища Дунаевского, на заседание. Приглашены представители музыки, живописи и литературы. Куся — от комитета учащихся. Надо сорганизовываться, и наконец-то для Якова Львовича будет работа.
Тихи улицы в сумерках, покуда пешечком пробираются Куся и Яков Львович из Нахичевани в Ростов. Последние дни марта, а ударил мороз. Так скрепил, так стянул, что дыхание виснет на бородатых прохожих сосульками, а у Якова Львовича застревает в ноздрях колючею льдинкой.
Одинокий фонарь от мороза — в тумане. От прохожих летят облачка, словно все закурили. И клубисто дышит трамвай, как животное, стоящий на запасном пути с печуркой внутри для кондукторов и метельщиков, чтоб отогревались до смены.
А по дороге в Ростов, подняв голову, смотрит Яков Львович на окошко с зеленою лампой. Там, сжав губами потухшую папироску и обмотав гарусным шарфиком больное горло, все ходит и ходит товарищ Васильев. Он не диктует. Между бровями тяжелая складка. Доктор сказал ему утром, что у него не простуда и не ларингит, а горловая чахотка. Но товарищ Васильев думает не о том. Он думает о наступлении немцев и о восстанье казаков под Новочеркасском.
Глава десятая
…ДА НЕ СШИТО
В особняке на Пушкинской улице жил-был некогда Петр Петрович, пока не бежал на Кубань.
В особняке на Пушкинской улице — столовая красного дерева, стены выложены изразцом цвета вымытых фикусов, и такого же цвета, глазурованной зелени, нюрнбергская печка с сиденьем.
В особняке на Пушкинской улице Дунаевский, комиссар наробраза и наркомфина, созвал совещанье.
Перед входом два рослых красноармейца с винтовками просмотрели внимательно повестки Куси и Якова Львовича и, посторонившись, пустили их. Внутри уже было полно.
Не сразу в накуренной комнате можно людей разглядеть. Посреди, у стола, опершись подбородком на руку и коленкой упершись на стул, не сидел, а стоял утомившийся днем от сидения комиссар Дунаевский.
Это был небольшой человек, женски-пышный в плечах и у бедер, с лицом, словно снятым с камеи: тяжелый орлиный нос, умный лоб, небольшие глаза под пенсне, выдающиеся, очень острые губы, по-птичьи. Вид значительный и якобинский, как шепнула горячая Куся…
Где Дунаевский теперь? Где другие, работавшие в суматохе и в хаосе в первые дни революции, когда не видать было шагу вперед и шли наугад и на смерть горячие, лучшие люди? Дунаевский расстрелян. Расстреляны и другие. И ты, никогда не видавший ни личного счастья, ни сытости, ни удовольствий, ни отдыха, маленький, бледный горбун, под шинелькою в снежной степи потерявший последнее — скудную кроху здоровья!
Вокруг Дунаевского, ближе к столу, разместился отряд меньшевичек, готовых к сраженью. Меньшевичку опытный глаз тотчас отличит от большевички. Меньшевичка куда фанатичней. Одета хорошо, непременно в пенсне, с черепаховым гребнем в прическе, держит себя солидно, — и придерется, так не отстанет, словно инструмент кусачка, вцепившийся в гвоздик. Меньшевичка еще не услышит, уже критикует; рот раскрыть не успеет сосед, а она уже резким фальцетиком, словно пилою по жилке взад-вперед перепиливает слабое место противника, — ничего не оставит, утешится, разомкнет ридикюльчик, вынет платок и взмахнет над припудренным носом.
Дальше, за ними, сидели поддевки, шинели, пиджаки, студенческий китель. Помалкивали. Когда приходилось вступать в разговор, предварительно сильно прокашливали запершившее горло. Среди них размещались и говоруны, по-партизански, но без успеха выскакивавшие на меньшевичек. Темой служила инструкция, приводимая ниже:
«Ввиду огромной важности воспитания и обучения детей для подготовки будущих граждан — строителей социалистической советской республики, и ввиду того, что учащие всех типов школ неоднократно организованным путем (учительские союзы, собрания) определенно враждебно относились к Советской власти, почему является крайне необходимым самым решительным образом сломить этот особого вида саботаж интеллигенции, для чего создать на самых широких демократических началах орган, который бы следил и направлял деятельность учащих, а именно: при каждом учебном заведении создается школьный совет с таким расчетом, чтобы учащих в совете было не более одной трети всего состава его. В школьный совет, кроме учащих, входят: три представителя от родителей и три члена от левых социалистов или лиц по рекомендации местной или ближайшей к поселению из указанных выше партий, а в крайнем случае по назначению местного Совета казачьих, крестьянских и рабочих депутатов из среды граждан».
Орфография (новая) колола глаза, с непривычки казалась таинственной смесью болгарского с канцелярским. На инструкцию все нападали. Но меньшевички напали отдельно: не на нее, а на принцип: «Зачем приставлять к учительскому совету лишь левых социалистов, а не социалистов вообще?» И, дружно разжав свои челюсти, все вместе (а было их девять) вцепились в несчастную фразу, словно инструмент кусачка в шляпку гвоздя.
Встал Яков Львович неожиданно для себя. Он искал и не находил подходящее слово, — в воздухе было другое.
— Товарищи, вы только что завоевали область, еще не учли и не проверили отношение учительства, а сразу вооружаете его против себя. Такая инструкция вызовет ненависть в самом доброжелательном. Зачем это? Ведь работать-то с ними придется. Людей и так мало. Заставьте их служить себе, а не вредить. Кто, выводя верхового коня из конюшни и седлая для дальней поездки, в зубы ему кладет не мундштук, а раскаленные прутья?
— Замолчите, — одернул его за полу расползающегося пальто молодой чернокудрый художник, сидевший на полукруглом сиденье нюрнбергской печки и грызший орехи, — сейчас не время, им не до этого!
И действительно, было не время. На Якова Львовича и не взглянули, лишь Дунаевский блеснул в него умным и знающим взглядом из-под тяжеловатых век, но не объяснил ничего. Заговорили опять и вконец осудили инструкцию, порешив на местах руководствоваться другой, еще более резкой. Избрали комиссию для ее составления.
Художник все продолжал грызть орехи, разжевывая их, как ребенок. И, поглядев на него, опечалился Яков Львович: ему показалось, что в молодом и красивом лице нарочно, для безопасности, было разлито больше наивности, чем полагалось по возрасту.
— Вот они, люди. Не нравится, а не вмешаются. Всяк убежден, что все равно ничего не добьется. А когда выйдет дело готовым, из рук вон плохим, ни на что не пригодным, у всякого голос появится со стороны, как из зрительной залы. Всякий тотчас осудит!
Это говорил, возвращаясь домой и обмерзшие пальцы в рукава забирая, Яков Львович закутанной Кусе. У той из-под шали блестели лукаво глаза, а рот она замотала, оставив лишь нос для дыханья. Но не удержалась, спустила размокший от ротика теплый платок под согревшийся подбородок и возразила:
— Какой вы! Сейчас разве строится? Это потом будет строиться, а сейчас революция. Что с того, что учительство еще не высказывается? В Москве было против и тут будет против. Лучше сразу сказать: «Мы враги», — чем возиться и время потратить.
— Молодчага вы, Куся, — сказал Яков Львович серьезно, — вам шестнадцатый год, а логике учите лучше профессора. Только разные мы. Я не знаю, мой друг, может быть, новый мир из таких, как вы, народится, но мы разные, и мне грустно. Всем сердцем желаю удачи большевикам, но многого не понимаю. Да и вам непонятно, о чем я.
— Очень даже понятно, если б захотела понять. Только сама не хочу. Если сидеть-понимать, как вы, так ничего и не сделаешь.
— А разве лучше делать вслепую?
— Не вслепую! Партия скажет, куда.
Куся уже свила себе гнездышко в революции. Она ходила на митинги, слушала разных ораторов — Коллонтай, матроса Баткина, студента Сырцова, товарища Жука. В доме Орловой происходили партийные заседания. Молодой член партии, студент-первокурсник Десницын, был с ней знаком и ссужал ее книжками.
Пуще сдавливало дыханье от мартовского мороза. Трещали на перекрестках костры, раздуваемые милиционерами. Огонь забирал заиндевевшие сучья, плакали сучья, оттаивая, и шипели, как шпаримые тараканы; дым не хотел подниматься, побитый морозом.