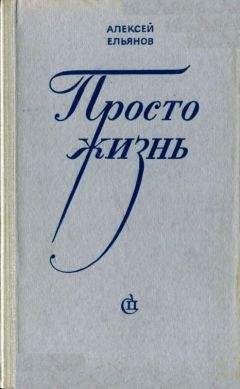Только теперь ее рука, ее пальцы будто ожили, сжались, соединились, стиснули с неожиданной силой обе ладони Петра, соединили их и отодвинули:
— Спи.
Душно, жарко стало в палатке, жестко на соломе. Она тоже не спала, он это знал и снова обнял ее. И снова она оттолкнула Петра:
— Не надо… не надо!
Петр резко поднялся, схватил одежду, выбрался вон.
Костер еле тлел. Петр подбросил дров, закурил, огляделся. Вокруг была тишина и серебряный полумрак, ярко светила полная луна. Пробежала машина через мост, густой туман стелился над рекой, сырая прохлада начала забираться под куртку, свободно накинутую на плечи.
Петр почувствовал озноб, усталость разлилась по телу, отяжелела голова, глухое раздражение и стыд мутили душу.
Петр затянулся дымом до головокружения, до кашля. Обошел вокруг костра. Потом сел невдалеке от него, подбросил еще несколько ломких веток на угли. Огонь побежал по листьям, затрещал, разветвился на желтые дорожки и короткие, алые, быстро гибнущие язычки.
Петр любил эту веселую и жаркую жизнь огня. Он мог смотреть на него подолгу; он, кажется, понимал огнепоклонников, их страх и восторг перед таинственной силой пламени.
«Сидели на корточках — вот как я».
Ярко горели ветки, вспыхнул сухой листок, что-то щелкнуло в костре и потом хрустнуло за спиной. Петр оглянулся — никого, ничего… тишина. Густой, непроницаемый мрак. Вдруг, как озноб, страх пробежал по телу и холодным комочком спрятался где-то в сердце… Это как в детстве, когда один в доме и прячешься под одеялом. Бояться некого, нечего… и все же… Уменьшаешься, становишься совсем крошечным, беспомощным… Темная земля, звезды из темноты и огонь… «Кто я? Откуда и куда мой путь?»
«Взвейтесь кострами, синие ночи», — пели в пионерском лагере и плясали вокруг огромного костра, не зная, из каких далеких далей пришел этот обычай хороводить.
Профессор потом рассказывал об ордалиях, суде божьем у славян и немецких племен. Колдуны испытывали виновных на этом судилище огнем и водой: выплывешь — прав, вытерпишь — тоже прав.
«А суд инквизиторов, их костры?.. Кто прав, кто не прав, и в чем она, правда?..» У римлян в день свадьбы перед входом в жилище молодых на порог ставились в чашах огонь и вода: «Ибо огонь оплодотворяет, а вода — производит…»
Петр придвинулся к костру, протянул руку, подержал над огнем. Обдало жаром. «Клянусь жить по чести и совести!..» И вдруг острая боль. Петр отдернул руку, не успев сказать всего, что хотел.
Много было желаний… всего не исполнишь, — жизни не хватит. Нужно сосредоточиться на чем-то главном… Огонь — жизнь, тепло, пища, но и мучения, боль и смерть. Огонь солнца, огонь души, огонь разящий, очистительный, испепеляющий, священный… Огнем страстей испытывается душа. «Любить, любить, я хочу любить!»
Петр услышал шаги за спиной. Это была Ольга. Подошла, присела рядом, поправила костер, чтобы загорелся поярче. Просторная куртка прикрывала ее всю от Плеч до ног, только голова высовывалась над приподнятым воротником. Петр подумал, что эта ночь как в старину на Ивана Купала, — парни и девушки затеяли русалочьи игры, разбежались кто куда, а они с Ольгой вдвоем у огня… Вот сейчас возьмутся за руки, перепрыгнут через языки пламени, не разжав рук. Перун соединит их навечно, потому что настоящая любовь не погибнет. «Хорошо ли мы сделали, что взяли ее с собой, выдернули из привычного мира? Легче ли, труднее ли теперь ей будет жить? — уже в который раз спрашивал себя Петр. — Простила ли она меня?..»
— Давай прыгнем через костер, — шепотом предложил он.
Ольга долго-долго смотрела на Петра, потом на высокое пламя.
— Пора ехать, — сказала она одними губами и поднялась с земли. — Надо ехать на работу первым автобусом, уже светает.
Ночь растаяла, а утро еще не наступило, — розовая дымка повисла над горизонтом. Тихая темная река притаилась в камышах, пролетела первая птица с шорохом легким посвистом, крыльев. Зеленая палатка, легкий крошечный домик дремал на пригорке, а рядом, должно быть продрогший, в росе, стоял мотоцикл, верный старый конь.
Тихо было вокруг. Что-то несвершившееся застыло на полузвуке, на полувздохе. «Я так и не смог ей подарить никакого чуда». И Петр не стал уговаривать Ольгу остаться, он понял, что ей будет лучше вернуться в Иваново сегодня же.
Не хотелось разрывать тишину работой мотора. Первый выхлоп вырвался из труб, как оглушительный взрыв. И сразу же из палатки выполз Илья, зевнул, потянулся, а когда Ольга подошла к нему попрощаться, угрюмо почесал бородку.
— Не поминай лихом, Илюша.
Ольга села в коляску, оглядела в последний раз светлеющие поля, мост через Нерль, сникший костер.
— Поезжай, — махнул рукой Илья и снова спрятался в зеленом домике.
Петр с ходу рванулся и погнал. Отчаянно перепрыгивая через ухабы выбрался на шоссе и понесся по асфальту.
Ревущие выхлопные трубы позволяли молчать. Да и о чем можно было бы говорить сейчас?..
Ветер, придорожные столбы, деревья, весь мир с маху налетал на Ольгу и Петра. И также стремительно и неумолимо все оставалось в прошлом. «Ой, как долго везла Соломония свое горе в монастырь», — вдруг подумалось Петру.
А в круглом зеркальце на руле снова уплывает все вспять… Дорога, Иваново, утро, купанье в Нерли, Суздаль, монастырь, вечер, ночь и снова утро.
И уже черная «Волга» мчится издалека, въезжает в отраженный мир зеркала. Постепенно автомашина стала менять свой облик, и вот уже…
Пара гривастых коротконогих лошадок тянет возок с плетеным верхом. На облучке бородатый кучер без шапки. Поблескивает его лысина на ярком солнце. А позади — молчаливые двое: он и она. Он — знатный боярин. Она — молодая, красивая женщина, на голове черный платок с алыми цветами — последний подарок царя Василия.
На дороге весенняя слякоть. Кони старательно чавкают копытами. Вдоль обочины, как блестки свежего снега, белые почки краснотала и вербы. А завтра большой праздник, вербное воскресенье.
Ямщик остановил коней. Боярин выбрался из возка. Увидел во всей весенней красе небо, легкие облака, белую церковь на излуке реки, учуял запах первых листьев, увидел заливной луг невдалеке. Краем глаза глянул на свою пленницу, на недавнюю повелительницу, на женщину, которой нет краше во всей Москве. Вдохнул боярин всей грудью воздух оттаявшей земли и страшно ему стало перед богом. Впервые за всю дорогу стало ему так вот невмочь от великого своего греха — будто он стал убийцей, душегубом. Будто вез он в монастырь всех женщин разом: и мать свою, и жену, и дочь, будто поручено ему окружить монастырскими стенами все вот это: и эту весеннюю радость, и даже само солнце. И показалось ему, что Соломония не просто женщина, а по всей своей безмерной красоте и по мучениям своим, и по глазам, которые видят все и страдают за всех, — может, сама божья матерь. И потому не дано ей родить от простого зачатья. И впервые тогда подумал боярин со страхом и благоговением, что женщина, баба, и молодая и старая, и самая невидная, и самая раскрасивая — не просто баба, хозяйка сундуков да посуды, что она страшное, тайное существо, большая власть у нее над всем миром…
Долго-долго не оборачивался боярин и все ниже опускал голову, и не знал, как теперь ему быть, пока не вспыхнула в нем клятва поставить во граде Суздале церковь и отслужить в ней молебен во спасение своей души и души Соломонии.
Влез боярин в свой возок. Ямщик щелкнул кнутом. Возок дернулся, поплыл, стал медленно удаляться. Но не в будущее, а в прошлое увозил он своих седоков, а сам, превращаясь в крошечную точку, в пятнышко, сначала в серое, потом все более заметное, в красное и выплыл, выкатился из прошлого тупоносым проворным «Москвичом».
Равнодушно и мощно тянул мотор мотоцикла. Расстояние от реки до города небольшое. Вон уже купола и шпили церквей Суздаля обрели свои основания и солнце выплывает навстречу восторженным сиянием. Скоро город, остановка автобуса.
Только теперь Петр взглянул на Ольгу. Лицо ее было непроницаемо, неподвижно. Но взгляд Петра она заметила и стала еще напряженнее всматриваться во что-то спасительное и, конечно же, невидимое…
Петр не спеша поехал к автобусной остановке. По улицам уже ходили девушки в брюках и с рюкзаками на плечах, с фотоаппаратами, мольбертами. Люди шли всякие, толпами и в одиночку. И все чего-то высматривали, выискивали в городе, больше приспособленном не для автомобилей, а для телег, не для зевак, а для крестьянского и рабочего люда, не для гвалта мирского, а для тишины монашеского смирения. Нет, должно быть, веселый был город даже при всех этих монастырях и церквах. «Что высматривают сейчас, во что вглядываются, что перенимают все эти очень недавно рожденные на белый свет люди?»
Петр сбавил скорость, притормозил, стало тихо. «Неужели мы вот так и расстанемся?» Он выжал сцепление и остановился совсем. Мотор тахтахал редко и глухо. Петр посмотрел на Ольгу. Она на него. В ее глазах была горечь и нежность, будто она просила прощения у Петра и прощала его за что-то.