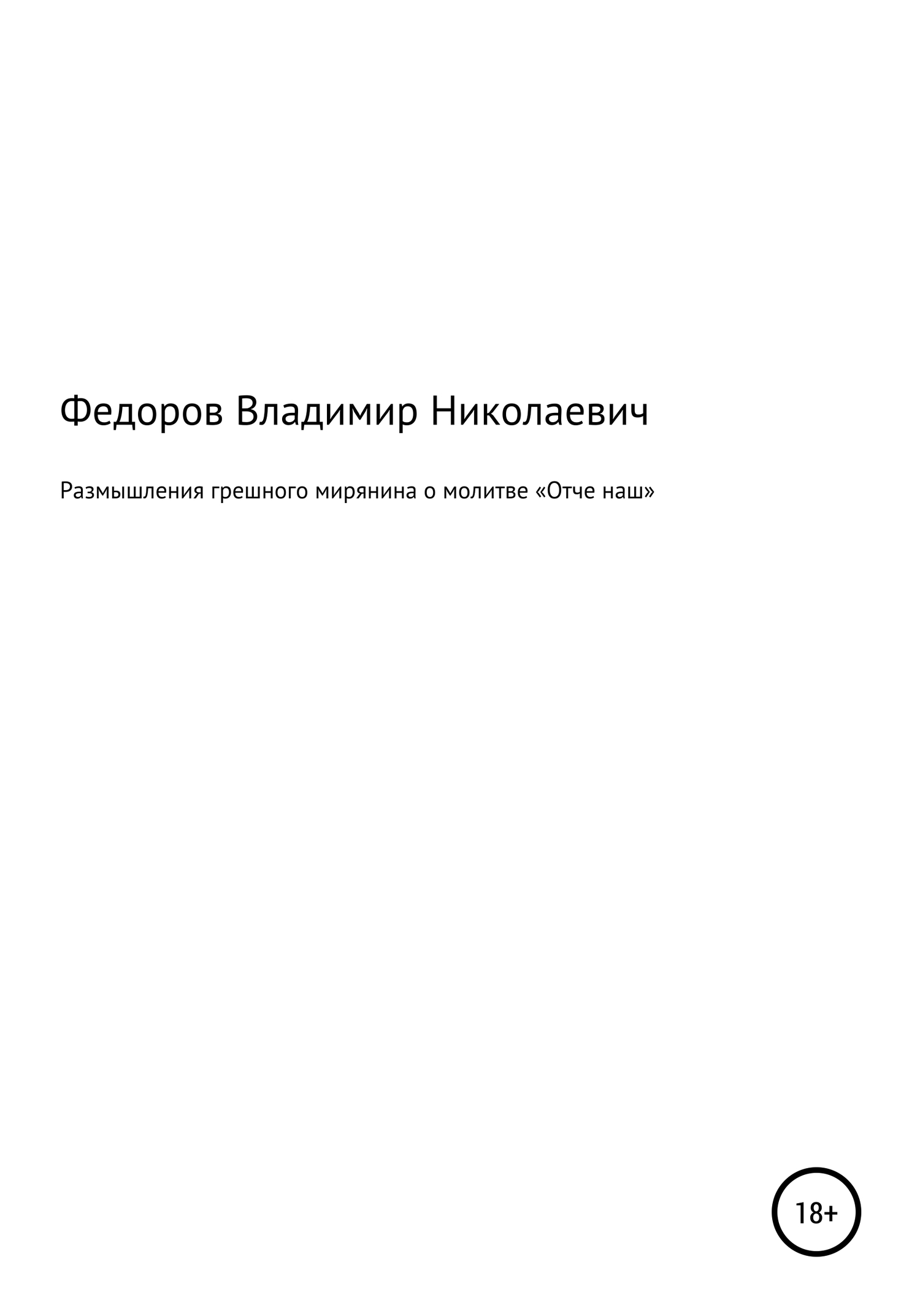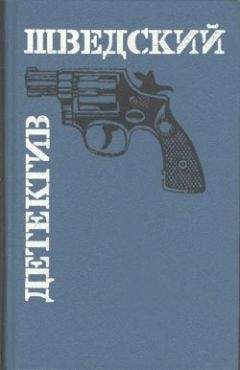обидно для Степана. И рядом в доме, и во втором, и в третьем, но только свет в квартире Татьяны Ивановны неприятен ему. Он не может понять почему, да и не пытается это сделать. Двое близки были сердцу его. Одна — любимая всей душой — сейчас вычеркнута из списков живых; вторая — вот она, рядом — продолжает обычную жизнь. И не эта, живущая, нужна Степану, а та, которой нет… Никто из них, обеих, не виноват, что так случилось, но как же сладить с сердцем?
«Пойду сейчас и скажу ей, какое горе у меня», — решает Степан, и перед глазами возникает, словно наяву, слегка опечаленное, но очень красивое лицо Татьяны Ивановны. Только теперь оно стало каким-то далеким для Степана. И все же он неподвижно стоит на дороге — минуту, другую… И знает, почему не решается стукнуть в калитку: там его встретит Миша, и как объяснишь малышу, что он, Степан, страдает, что у него большое-большое горе. Может быть, вырастет, поймет, что это за горе, а сейчас…
Медленно уходит от дома Степан. Не может он нести в дом несчастной Татьяны Ивановны свою печаль: жаль и ее, и пацанов.
И к Михалевичу не идет Степан. На все звонки его отвечает односложно: «Не могу. Занят»…
Михалевич сам появляется в общежитии.
— Чего ж это ты? — еще с порога весело кричит он. — Такая горячая пора, надо корректировку кой-каких узлов производить, а ты… Что произошло?
Сам сквозь сильные очки внимательно смотрит на Степана. Видно, заметил, как осунулся, потемнел лицом Степан. И, оглянувшись на Кораблева, подходит к Игнашову почти вплотную, спрашивает:
— Ну, рассказывай…
— Да так… Не хочется, словом…
Пожал плечами Михалевич, снял очки, протирает носовым платком. И головой покачивает, близоруко оглядывая Степана.
— Не верю. Есть причина, конечно…
И его тихий голос обезоруживает Степана, вдруг подумавшего, что нечестно скрывать от этого хорошего человека, почему нет желания продолжать работу над машиной.
— Да так…
— Ну, ну…
— Умер человек… — и отвернулся, склонился над тумбочкой, словно надо ему что-то там. — Девушка… моя…
Михалевич растерянно замирает с очками в руке, потом, спохватившись, кивает:
— Ну, ну, держись… Я один пока поработаю, ты отдыхай, отдыхай. Впрочем, когда делом занят — это лучше… Хотя… Ну, ну, отдыхай…
После его ухода Леонид откладывает книгу, поглядывает на Степана, замершего у окна.
— Может, и впрямь это лучше, Степан?
Тот молча отводит взгляд. Леня встает, прохаживается задумчиво с книгой в руке то комнате. Потом вдруг быстро идет к своей тумбочке, достает тетрадь и что-то пишет там.
Скрипит дверь. Это пришел Пахом Лагушин. В последнее время, после обвала, он ведет себя очень странно, сделался мрачным, малоразговорчивым.
— Слушай-ка, Пахом, — поднимает голову Леня. — Это нам для бригадного кодекса подойдет? Интересную дискуссию начала наша молодежная областная газета.
А сам нет-нет да и посмотрит на Степана, улегшегося на койку.
— Представляешь, вопрос такой: человек и дело. Не подходит?
— А ну его! — машет рукой Пахом.
— Нет, нет, слушай… Смотри какое на первый взгляд противоречие. Все во имя человека, для блага человека — первый лозунг. А второй: интересы общества превыше всего. Ну, хорошо… Все для человека — это значит для меня? Стало быть, и мои личные желания, и переживания, словом, все личное — на первый план?
— Личное нельзя на первый план, — неохотно замечает Пахом. — Это — азы политучебы…
— Ну, конечно! А если твое личное, мое, его и так далее — на задний план, то, собственно, для кого мы работаем и строим коммунизм? Ведь общество — это такие, как мы? Значит, я имею право, и ты, и другие на то, чтобы наши потребности как можно быстрее и полнее удовлетворялись?
— Жди, рот еще раскрой, — бурчит Пахом. — Думаешь, нет недовольных, которые напевают каждый день: мало зарабатываем, в Америке рабочий на машине ездит, а мы — в автобусе…
— Вот видишь? А интересно, как такой человек думает вот о чем… Общество — это не только ты, да я, да он… Это — прежде всего — дело! Понимаешь — дело! Которое мы сообща ведем. Нельзя человека оторвать от дела, иначе он будет — балласт. И чем плотнее вживается он в свое занятие, тем успешнее ведет дело, тем больше обществу — и ему самому — от этого пользы.
— К чему ты это все? — недовольно говорит Пахом и неожиданно смотрит на Леню странно тяжелым взглядом: — Дело делом, а Кузьмы нет…
Леня изумленно поглядывает на него. Почему он о Кузьме заговорил? В бригаде стараются больше молчать об этом…
Пахом неподвижно стоит посреди комнаты, потом молча, не глядя на Леню и Степана, выходит из комнаты.
— Что это с ним? — встает Леня, но Степан лишь молча пожимает плечами.
А Пахом торопливо сбегает с крыльца общежития, стоит в раздумье у подъезда, возле которого останавливается машина. Из нее выходят Сойченко и немолодая уже женщина в темном костюме.
— Лагушин, иди-ка сюда! — окликает Сойченко, а сам поясняет женщине: — Это из бригады Кузьмы… Знакомьтесь: это мама Кузьмы Мякишева, а это — товарищ его. В одной комнате жили, да и в завале вместе побывали…
Мать Кузьмы?! Нет, нет, Пахом не сможет спокойно говорить с нею, ведь именно он — виновник смерти Мякишева. Она, конечно, станет обо всем расспрашивать, а как спокойно рассказывать, когда сердце требует: не имеешь права!
— Вы… Я очень срочно… Там Кораблев и… — торопливо, не глядя на Сойченко и женщину, говорит Пахом и уходит, почти бежит по бульвару, боясь, что они окликнут его. Горько чувствовать Пахому, какую мерзкую тайну хранит он… И Груздев тоже…
«И ты, Ваня, молчишь? — вскипает в нем внезапный гнев. — Боишься за собственную спину? Ну, погоди, я все-таки решусь… Точно! Я решусь… М-да… В общем-то, так… Пойти и рассказать все самому. Как выбивали стойки».
Но это еще не решение. Уже много раз мысли приходили к такому концу, но Пахом никак не насмелится переступить порог горотдела милиции. Всегда в последний момент его охватывает какая-то слабость, он не может взяться за дверную ручку, а отойдя от здания, опять возвращается мысленно к тому, что не сможет умолчать о смерти Кузьмы Мякишева. Но вот сейчас… Она — там, в комнате, мать Мякишева, человек, который вырастил его, как знал Пахом, без отца. Вероятно, она и Пахома будет ждать, чтобы еще что-нибудь рассказал о ее сыне. Может быть, крохотный случай, какой он помнит из жизни Кузьмы, ведь матери все это интересно… Крохотный?! Нет, он видел, как погребала стихия ее сына, он — один! И никому об этом ни слова не сказал! И последние слова Кузьмы помнит: «А куда спешить-то?»
Пахом останавливается, не обращая внимания