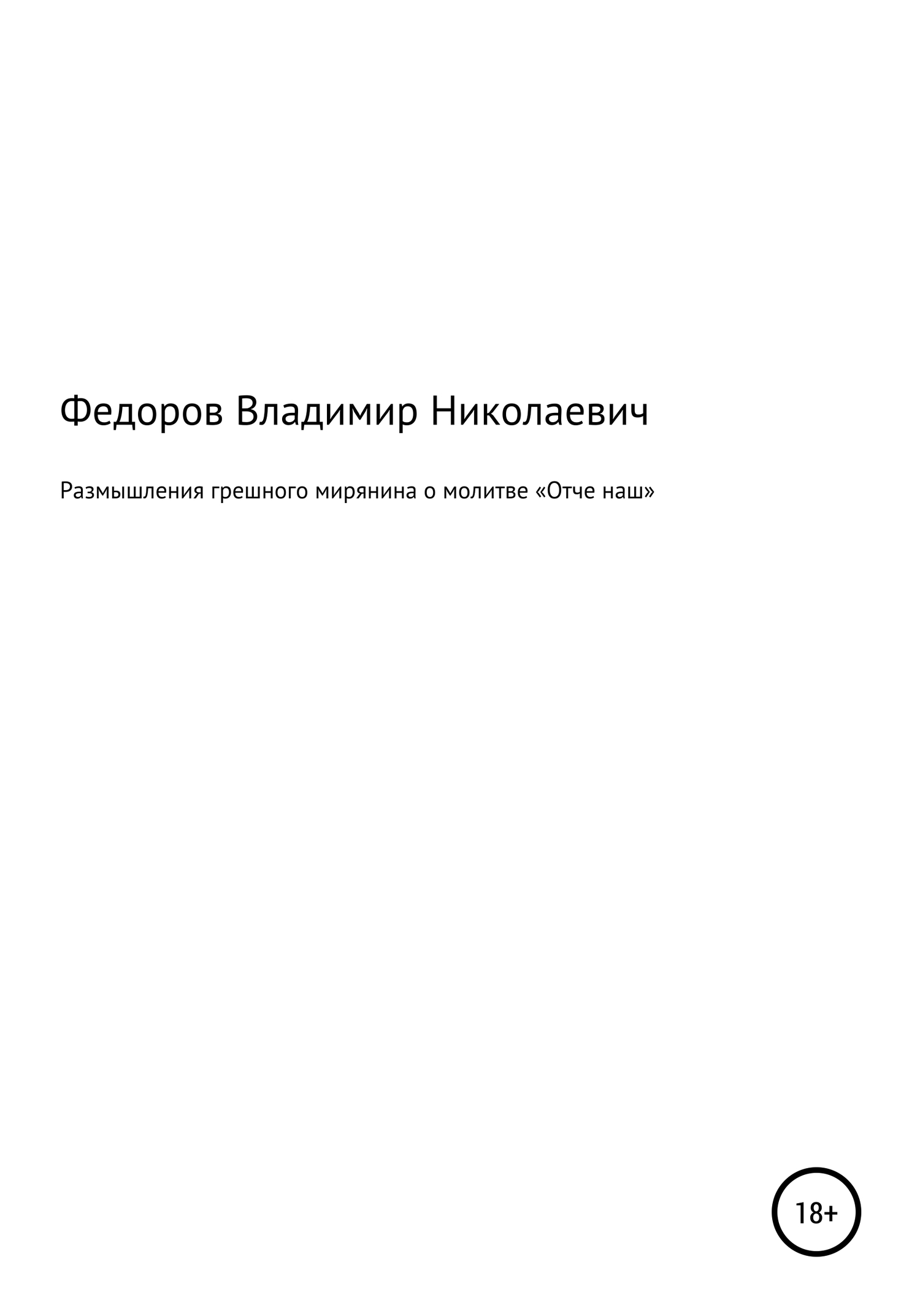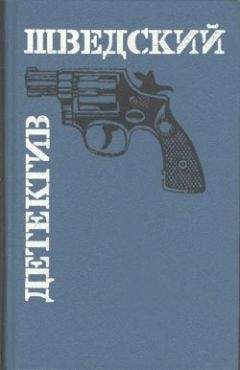у водоразборочной колонки… «Своих искалечат — за наших примутся…» И дальше — снова мысли о Танчуке, о других, без ясных лиц, сектантах. Представляет на миг, что этот чернявый гладкий Танчук тянет руки к ее животу, и вздрагивает… Почему так? Верят в бога, а детей изнуряют на молитвенных собраниях, принуждают делать то, что хотят сами? «Не с богом, а сам с собой разговариваешь во время молитвы…» — вдруг ворвались забытые было слова священника Алексия, слышанные на том вечере в клубе. Может, и впрямь — не с богом, а сами с собой разговаривают сектанты, когда молятся? Потому, наверное, и с ребятами делают, что хотят? Ведь господь — против насилия, зачем же они ребят принуждают делать то, что и сами?
Странные мысли приходят в голову Любаши, но она не может их остановить. И даже не пытается: ведь они направлены против сектантов, этой бесноватой братии, а под сердцем у Любаши уже бьется ее ребенок, и она теперь очень понимает Татьяну Ивановну и других матерей, возмутившихся Аграфеной Лыжиной в тот вечер у водоразборной колонки.
«Интересно, сын или дочь будет? — с посветлевшим лицом думает она. — Постой-ка! Как это узнают заранее? Надо сесть на пол и потом подняться. Если на правую сторону поднимусь — сын! Или наоборот? Ну-ка, попробую… Потом у девчат на шахте спрошу».
Любаша садится на пол, но встать не успевает: входит мать.
— Чего это ты? — настороженно смотрит она на дочь. — Плохо, что ли?
— Да нет, — вспыхивает Любаша. — Просто так…
И встает, не замечая, что оперлась на правую руку.
Приезд старшего брата Василия в копринскую общину был для Филарета неожиданным. Обычно тот передавал проповедникам и пресвитерам приглашение побывать у себя, если они были нужны ему.
«Что-то случилось, — настороженно размышляет Филарет, сидя напротив молчаливого, задумчивого старика. — Но что, что?»
Он решил, что до старшего брата донеслись слухи о связях с Лушкой, и уже мысленно оправдывался перед Василием. Собственно, больших оправданий и не требовалось: душа рабы Лукерьи уже пребывала в царствии небесном, и разве не способствовал этому он, Филарет?
Старший брат недовольно оглядывается на прибиравшую комнату Нину и, встретив ее вопрошающий взгляд, кивает:
— Оставь-ка нас вдвоем, сестра…
Жена торопливо одевается и выскальзывает за дверь. Странно, но и ей боязливо под строгим, пронизывающим взглядом этого крепкого, молчаливого старика. Чувствует, что, пожалуй, прикажи он, — выдаст все тайные греховные мысли. А они есть у нее: не очень-то крепка вера в господа у этой красивой и не состарившейся еще женщины.
Едва за нею захлопывается дверь, старший брат поднимает глаза на Филарета.
— Блуд и пьянство разводишь в общине? — тихо произносит он, но Филарет вздрагивает, уловив железные нотки в голосе брата. — Или позволено тебе это? Кем? Ответь мне…
Филарет молчит, потом произносит:
— Не позволено, знаю, брат… Но Лукерья…
— О Лукерье, девице той, разговор оставим. Душа ее в царствии небесном, знаю я, и тем вина твоя искуплена. Но греховные помыслы — зачем поселяешь в душе своей, брат Филарет?
Или не знаешь, что прикасаться для тебя греховно к тем, кто не является членом нашей секты?
Молча отводит глаза Филарет. Трудно оправдываться перед старшим братом Василием — знатоком догматов веры. Ведь и сейчас для него важен не сам по себе случай, а следствие, из этого случая проистекающее.
— О том поговорим еще, брат Филарет, — с усмешкой продолжает Василий. — А пьянству зачем приют даешь в общине?
Изумленно поднимает голову Филарет. Какому пьянству?
— Об Апполинарии говорю я, — произносит все так же неторопливо Василий и делает предупреждающий жест ладонью, заметив нетерпение Филарета. — В позор вовлекаешь общину свою, да и нас заодно, а? Наслышан я об этом Ястребове и не верю, что чисты его устремления к господу богу. Верю, наказали его силы сатанинские, но разве в пьянстве спасение его? Не той дорогой идет он уже давно, и уверен ли ты, что свернет он с нее и пойдет с нами, ища духу своему спасение в беседах со всевышним? Слишком сильна в нем тяга к пьянству.
— Ручаюсь я за него, — быстро говорит Филарет. Ничего не остается, как сказать это, хотя знает, что и в секте известно: изредка прикладывается тот к спиртному. — Под свой надзор возьму, отучу от водки. Поначалу трудно будет, конечно, но ведь все средства хороши, коль делаешь угодное богу дело… — он сдержанно усмехается. — И насилие, коль благие цели преследует оно для греховной души, одобрит господь наш всевышний. Сам я стакан из руки Ястребова вырву, коль попробует тянуться он.
— Сам, говоришь? — морщится Василий. — А стоит ли он того, этот Ястребов?
— Стоит, брат Василий, — отзывается Филарет. — Он неглуп, и коль поверит в спасительную силу всевышнего, много полезного принесет нашему делу.
— Поверит, — задумчиво роняет Василий. — Хорошо, если поверит. А если нет?
— Нет иного пути у него, он и сам это понимает. Или скатится на самое дно жизни, больной от пьянства и никому не нужный, или должен начинать новую жизнь во славу спасителя нашего господа бога.
— Может ведь и скатиться… — сомневается Василий.
— Натура у него интеллигентская, претит ему быть среди всех этих потаскух и бражников. Лучше думает о себе, чем есть на самом деле, а эта-то гордость как раз для нас и хороша…
Долго еще разговаривали они о Ястребове, и Филарет повеселел, видя, как его промах с Апполинарием все больше дает ему возможностей заслужить похвалу старшего брата Василия.
— А и мне не мешает посмотреть, каков он из себя, твой Ястребов-то, — сказал наконец Василий. — Пришли-ка, поговорю с ним. Где оставил-то ты его?
— К сестре Ирине сейчас перешел…
Знает, что не надо говорить: с Власом разлучили их не случайно. Заметили как-то сестры и братья, что от обеих попахивает винным перегаром.
— Хм… — щурится Василий. — Это-то, пожалуй, верней, чем разговоры о интеллигентской натуре. Женщина-то лучше привлечет его к нам. И греха в том не будет. Не соблазнилась бы сестра Ирина-то раньше того, как примем его в свои ряды.
— Ну, соблазн-то невелик, — ответно улыбается Филарет. — Во славу всевышнего, разве что, только и поддастся ему сестра-то Ирина…
Однако он ошибался, Филарет. Когда чисто выбритый, переодевшийся после бани в свежее белье, оставшееся у сестры Ирины после мужа, и в опрятный, правда, не новый Филаретов серый костюм, Ястребов прошел от дверей к столу, хозяйка с интересом глянула на него.
«Ишь ты, как красит и меняет человека одежда», — удовлетворенно думает сестра Ирина, и чувство скрытой неприязни, охватившее было ее при появлении грязного