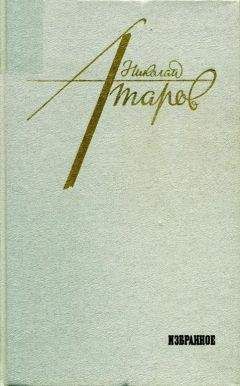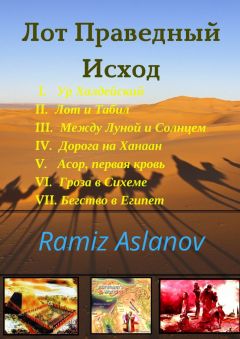— Прекратить! — оборвал комендант и, подумав, заключил, обращаясь к сержанту Семушкину: — Это ушел кто-то с нашего берега. Недосмотрели.
Семушкин молча наморщил лоб, и комендант отвернулся.
— Зачем вы спорите? — упрямо твердил Куцеконь. — Я же с ним разговаривал, он с того берега. Я ему лицо растер спиртом, доктор спирту дал мне в дорогу…
— Ну вот, сразу так бы и говорил, — усмехнулся комендант. — Хотел бы я видеть этого человека. Что, Семушкин, скажешь?
Семушкин морщил лоб. На протяжении всего разговора он глядел в спину санитара. Семушкин голодал хуже других, мучительнее, не скрывая своих мук от бойцов, и бойцы не любили его за это. Я догадывался, что ему невтерпеж слушать об этих салазках.
— Распоряжения будут? — угрюмо выдавил Семушкин.
— Можете быть свободны. И подтянитесь: стыдно перед людьми!
Мы вместе вышли от коменданта.
Я проводил Семушкина до нашей барки, и он уселся там на весах, закурил. До войны, то есть еще полгода назад, он работал на племенной ферме под Костромой весовщиком. «Потому и спит на весах, — шутили бойцы, — чтоб своя деревня снилась». Там семья, дети. Вслух о них он не заговаривал, да и вообще не было у него друзей во взводе. Командир он был не злой, но напрасно расчетливый. Педантичный был, будто не понимал беды, которая навалилась на всех сразу: голодал хуже других, а на весы к себе никого не пускал, хотя и замерзал поздней ночью. В ту зиму многие испытывали раздражение даже от какой-нибудь ничтожной черточки: как человек ест хлеб. Семушкин ел с ногтя. Он резал свой хлебный паек на тончайшие плитки, вроде кусочков пиленого сахара, клал каждую плитку по очереди на ноготь и с ногтя отправлял в рот. Курносое лицо с раскрытыми глазами и наморщенным лбом при этом вдруг добрело. Он долго жевал, шевеля коленями под полами шинели. Зрелище это не для голодного, — я помещался как раз против сержантских весов, меня раздражал этот горбатый темный ноготь, когда на нем сержант умащивал отломышек хлеба.
— А ты веришь, что Куцеконь не врет? — спросил я Семушкина, когда он присел на весы.
— Чего же тут врать, — ответил сержант, натягивая на себя полу шинели. — В декабре тоже прошел один папаша с салазками. Мы его, конечно, пожалели, пропустили. Потом возвращался из Ленинграда, рассказывал: никого там в живых не застал, детишек уж и похоронили… опоздал.
Семушкин говорил с трудом, запинался, глядел куда-то поодаль, нетрудно было догадаться, что, рассказывая о чужих детях, в мыслях он идет сейчас мимо собственной избы в селе под Костромой, заглядывает в окна: как там жизнь-то?
— Куда ж он подался?
— А куда все — на тот берег. Переночевал у нас в трюме, бойцы супом кормили… Тогда у нас еще было легче. Я… тоже… место уступил.
— На весах?! — удивился я нескромно.
Подстилка, на которой спал Семушкин, была из дырявого детского ватничка, из тех узлов, которые бойцы часто находили уже вмерзшими в снег; подстилка была тощая, узкая, не покрывала всей площадки; значит, два отца спали в ту ночь, тесно прижавшись друг к другу.
— А пропустил бы ты его сейчас… с салазками?
Странно — к этому вопросу Семушкин не был готов. Лицо его приняло выражение напряженное, как будто ему хотелось улыбнуться и было больно от улыбки.
— Как же можно — от детей взять? — ответил он, помедлив.
— Ну, отщипнул бы краюху?
— Ни за что.
Я жил на озере десятый день, и в то утро комендант меня опять ничем не порадовал: в списках прибывших не было моих. Днем я сделал обход общежитий. В лесу костры горели непрерывно, дым мешался со снегом, в запахе дыма голод притуплялся. В общих помещениях, в школе, в рыбацких бараках мешали видеть клубы пара; холод стоял по пояс, матери сажали ребят на верхние нары. В углу, возле дверей, лежали и стояли в человеческий рост плоские парусиновые мешки. Они были залеплены сургучом, гнулись от тяжести. Мы знали, что это банковские пакеты с деньгами. Не помню, стоял ли возле мешков часовой.
Детей не было видно даже при свете электрических лампочек, которые слабо напоминали о себе в тумане. Но я слышал дыхание на нарах, коклюшный кашель, слабые голоса. И мне хотелось, чтобы человек с салазками, которого видел Куцеконь, набрел на этот барак и признал своих по голосам, по кашлю, по дыханию и чтобы он всем уделил от своего богатства. А я бы ему помог управиться с салазками, постерег на ветру.
В сумерках я возвращался к барке. В этот час, взрывая воздух ревом моторов, тяжелые самолеты прорвали снеговую пелену. Шли они эскадрильями со стороны озера, почти задевая сосны, и лес устрашающе отдавал гул и яростный скрежет. Это транспортные эскадрильи шли в Ленинград, везли масло, глюкозу, разделанные мясные туши.
Я приостановился на минуту. Весь день хотелось увидеть живым этого человека, а тут, под вечер, перед раздачей пайка, голова закружилась и, может быть, от тени самолета что-то померещилось: я как будто увидел его, упрямого и живого, идущего на помощь своим детям. Мне казалось, я видел, как он шел к берегу с озера, налегая на лямки салазок, падая и снова поднимаясь… Где тут дорога в Ленинград?
Никого я, конечно, не видел, просто глаза устали от снега. Но когда я поговорил с бойцами, оказалось, что не мне одному мерещился «папаша», как его прозвали в комендантском взводе: бойцы в заставах весь день краем глаза стерегли его появление, и многие видели его — и ошибались вроде меня.
По вечерам в трюм барки набредало много народу — комендантских, аварийщиков, шоферов с тягачей. Заходили по морозу бойцы со звукоуловителей. Горел фитиль в артиллерийской гильзе, шла дележка хлеба, и, пригревшись на часок в дымном воздухе, можно было заснуть. Каждый, конечно, затягивал ужин: одни осторожно надкусывали с краю и долго жевали, другие просто медлили с едой — оправляли лохматое пламя гильзы, заделывали люк, стелились, мешали жестяной кружкой льдинки в ведре.
К ночи мороз усилился, ветер окреп, и парус заполоскался над нами снаружи. Мы дремали или тихо разговаривали, тесно улегшись на дне барки, слушая непогоду. Шофер из автороты с загипсованной рукой, отзывчивый юноша, великодушию которого странно не соответствовала его лукавая улыбка, рассказывал о тихвинских боях. Подальше, в полутьме, — боец по фамилии Скворушка, веселый и выносливый человек, приходивший к нам из аварийной бригады. Сейчас он вспоминал госпитальную няню с Петроградской, где он лежал после Ораниенбаума.
— Понимаешь, девчонка какая! — доносился до меня добродушный голос. — Я к ней и так и этак… — И слышно было, как Скворушка и его собеседник смеются. Слушал его любитель ночных бесед, доброволец из Ленинграда, электромонтер и радиотехник Васнецов.
Наискось от меня, у десятичных весов, ближе к дотлевавшей печурке, пожилой боец, собрав крошки с полы шинели, сказал:
— Все убито.
— Все съел, чтобы фашисту не досталось? — рассмеялся Митя Кудерев.
К Мите Кудереву взводные «старики» относились снисходительно, прощали его шутки — он играл на гребенке. Не было другого музыкального инструмента. Иной раз, когда замолкали разговоры, отвлекавшие от голода, начинала гудеть по-шмелиному гребенка на Митиных губах; играл он песни и очень старинные, олонецкие и всякие, хотя сам был городской, из Порхова. И становилось хорошо в холодном трюме барки на Ладожском озере, будто и нет войны и гитлеровские банды не сидят в десяти километрах, под Шлиссельбургом.
— Чтобы фашисту, говоришь, не осталось?
Пожилой боец ничего не ответил на Митину шутку, только вздохнул да отряхнул шинель варежкой — так, от широкой души. Был он вологодский колхозник, а попал в комендантский взвод, как ни странно, из лыжного отряда. В декабре прошел по озеру отряд лыжников. Больного ездового сняли на берегу. Так и остался Жинкин топить печи. Фамилия его была Жинкин, а звали его «Приписной», потому что он себя не считал солдатом, отговаривался: «Я ведь из приписных».
— Нынче все приписные. Война идет, отец, фатальная! — разъяснил ему Митя Кудерев, и с тех пор осталась за Жинкиным эха кличка.
Голодал он тяжело, вроде Семушкина, но старался не показывать, и бойцы его любили.
В этот вечер долго не умолкали разговоры. Горбатые тени шевелили головами и плечами по своду и гнутым бортам трюма. Хлопал парус. А рядом со мной лежал бледный и тоненький боец, комсомолец Вадим Столяров, по прозвищу «Сомик», почти мальчик, с больными ногами. Близорукий, с огромными пушистыми ресницами, изогнувшись к далекому свету гильзы, он читал затрепанный томик Короленко — «Историю моего современника». Он каждый вечер читал «Историю моего современника», и когда укладывался наконец на бочок, я укрывал его шинелью.
Понемногу я засыпал. На холоде, после скудного ужина нельзя это назвать сном — просторное и как бы гулкое состояние, в котором снится что-то бесформенное и ты знаешь, что это не сновидение, а забота о том, как бы укрыть колени. Сквозь дремоту я слышал, как бойцы говорили что-то сердечное, доброе о «папаше», повстречавшемся Куцеконю на льду.