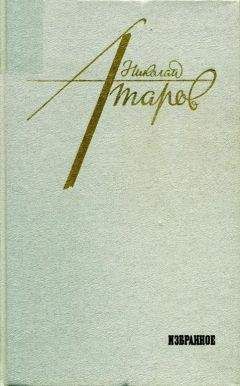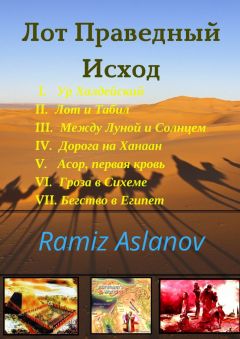То и дело в сенях стучала щеколда и слышался шорох метелки. Ксения, бабкина невестка, знала, что где сушить. Мокрый полушубок — боже сохрани на печку! — прямо на земляной пол. А валенки и варежки — тесно в ряд на печи. Винтовки — в дальний угол, чтобы отпотели.
Каких только гостей не принимали хозяйки!
Один запомнился — злой.
— Мы, — говорит, — нынче перед тобой, а завтра перед немцем.
Старуху не возьмешь на разные такие выражения: у ней-то у самой пятеро сыновей на фронте.
А один полночи на дворе простоял, караулил: заметил, что ребята из его полка солому по дворам растаскивают. Ксения вышла на разговор, испугалась, а он успокоил:
— Ничего, я так, покуриваю тут. Не сумлевайся. А то солому утащат у тебя, глупая баба… Свой-то воюет?
Еще один заскочил, так тот все хотел голову помыть снеговой водой, без мыла. Долго плескался, а потом у печки сушил рыжие, потемневшие от воды волосы, крутил самокрутку, жмурился.
— Откуда ты, милый? — спросила старуха.
— Из Кимр.
— Сапожник стало быть…
— Коли Кимры, так уж сапожник! Нет, шлюзовый механик.
И старуха пожевала губами, как всегда, если чего-нибудь не понимала.
Были бережливые и были щедрые. Солдаты не трогали утвари. Только и было убытку, что искрошили зеленую клеенку на столе, бог с нею… Солдат сгоряча, с дороги, сахар стал рубить на столе. Давно ушел он и уж давно, наверно, на передовых, а память оставил. И каждый, кто ужинал за столом, спрашивал, разглядывая чистую клеенку:
— Верно, сахар рубил? Неосторожный какой: где ел, где кушал, там и зарубку оставил…
Один ложку забыл. Старуха, подавая ее к горшку со щами, всегда приговаривала:
— Ваш какой-то оставил. Тоже так-то, как вы, пришел: «Пусти на ночь».
На стене шли ходики и, может быть, от дальнего гула на Дону часто останавливались. Кто-нибудь из солдат снова ставил их по своим часам. Под ногами ходил и обглаживался черный хозяйский кот; о нем бабка тоже знала что рассказать; кто его брал на руки и в усы дул, кто рыбой кормил, а узбек затопал на него, прогнал от себя — кота не любит. И когда рассказывала про узбека, как он на кота по-своему заругался, все смеялись.
Однажды черкес ночевал и стал свататься к невестке. Щеголял перед Ксенией, красовался, сам смуглый, осанистый такой.
— Иди за меня. У меня в горах дом каменный.
А тут подвернулся в ту ночь курносый какой-то, все возился со своими мокрыми портянками; стал он дразнить черкеса.
— Бывал я, — говорит, — в ваших местах. Брешешь ты: «каменный»! Обыкновенно кизячная сакля. Это тебе мнится, что каменный.
Но черкес всю ночь хвастал каменным домом, и на душе у него, видать, смутно было, и нужен был ему в ту ночь друг. Позарез нужен. Подозвал к себе девочку, Ксенину дочку, снял кольцо с руки, отдал девочке — подарил. Серебряное, с насечкой.
И хоть смеялись свекровь и невестка над тем, как черкес забежал погреться и от живого чуть не увел жену: «Ишь зять образувался, чудак… Свой уж там шестнадцатый месяц… Он сегодня здесь, а завтра кто его знает где», — но когда ушел черкес на рассвете, часто они его после вспоминали, вышучивали, — обеим он им втайне по сердцу пришелся. И жалко было, что война всех угоняет.
Однажды остановился в избе генерал. Поснимали фикусы со стола, накрыли стол чистой скатертью и поставили свечи в медных литых подсвечниках. А на стене повесили большую карту; она висела рядом с иконой, чернеющей в тусклом серебре. Лицо у генерала было, как казалось старухе, хоть и строгое, но крестьянское, простое. Он сидел на высокой постели, ногами не доставая до полу, беседовал с полковником, и только запомнилось старухе, как он сказал о немцах:
— Я их на левом фланге чутьем чую, как, знаете, по тяжести ведро узнаешь в колодце. Пора начинать.
И как сказал генерал о ведре и колодце, так бабка перестала робеть; почему-то ясно представила себе крестьянскую мать этого генерала и его самого в детстве, вроде Андрюшки, и сделался он, несмотря на его карты и подсвечники, таким же военным постояльцем, как и другие, что занимали до него избу каждый вечер.
Уехал генерал, и снова к ночи наполнилась изба. Одни стаскивали с плеч мешки, другие разматывали портянки, щелкали затвором; кто-то сладостно тер коленку: «Рана мучает, — видать, к снегу. Наверное, потеплеет», — и, видно, было привычно ему родниться через старую рану с ветром, что гонит снеговую тучу. Невзначай рассказывали о былых делах — кто с Брянского, кто из-под Ельни, кто из-под Невской Дубровки; сыновей бабкиных не встречали, но зато было столько трезвой, хозяйственной ненависти к врагу в неторопливых словах, что старая все равно радовалась, кивала да подливала каждому молока. А одного казаха даже в лоб поцеловала, когда он, сверкая глазами, стал рассказывать, как заскочил в немецкий окоп: «Двенадцать перерезал, патронов не портил…»
— Сердешный ты мой! Дома-то жена, поди, ждет.
В эту светлую минуту старухиной радости кто-то прислушался:
— Ставня хлопает. Это ты, гвардии Мухамеддинов, ставню завязывал?
Но старуха, улыбаясь, оправдала казаха:
— Если кто из военных, она всегда стучит — у нас там особые секреты.
— Это что! — сказал пожилой солдат, обтиравший винтовку. — Вот в Серафимовиче-городе… там совсем пустой город после немца, жителей угнал… не привязаны ставни во всем городе. Ночью ветер поднимется — хлопает во тьме, гремит.
— Железо на крышах скрыпит, — вкусно, будто с удовольствием, подтвердил сержант, который в углу жадно готовился к ночлегу — ползал по расстеленному полушубку и мял его кулаками, приговаривая: — Эх, и покатаюсь нынче всласть!
Наступала ночь. Бормотали, всхрапывали, стонали. На дворе, на морозе — сквозь ставни видно — горел костер: это рачительный ездовой из башкир не хотел войти в дом погреться, отойти от лошадей.
По ночам летали на бомбежку наши самолеты. Они всегда пролетали прямо над избой, тревожили лошадей во дворе. И по ночам кто не спал из солдат, тот слышал, как вздыхала старуха и что-то похожее на молитву шептала вслед летчикам, чтобы ребята вернулись невредимыми. Под утро и впрямь они возвращались: гудели моторы.
Так шло время. Непонятно было, сколько же там может фронт вместить. Новые волны идущих затопляли избу и двор, и не было никому отказа — ни веселым, ни грустным, ни скупым, ни щедрым, ни русским, ни армянам. Только уж если полным-полно и укладывать негде, а еще стучатся, тут старуха не отворяла дверь:
— У нас военные… Полно́, милый человек. Поищи у соседей. Нам ничто не сто́ит, да сам не отдохнешь и людям не дашь.
И укладывались спать обогретые, сытые люди дружно и тесно, рядком на полу; а если кого знобило, того женщины клали на скамью, ближе к печке. Сами хозяйки, втроем с девчонкой, спали на одной кровати.
Разговор затихал не сразу.
— На войне без претензий, — говорил один, подвертывая шинель под плечо.
— На войне безо времени известно, — спросонок глубокомысленно, но непонятно замечал другой.
А третьему, молодому, не хотелось спать, и он всю-то ночь задавал бабке вопросы «на искренность», все чего-то допытывался.
— Мать, а мать… Ты скажи мне, мать…
— Что тебе, сынок?
— Ты скажи мне, мать… Ну, ночи не спать — это можно. Вон шоферы автобатовские рассказывали — трое суток совсем не спали. А тоже в мирное время были люди разборчивые и зарабатывали, верно, поболе моего. Мать, я о чем говорю: ну, ногу не пожалею… ну, за рукой не постою… отдам…
Мысль его билась, как птица крыльями; он что-то хотел высказать и все допытывался у старой женщины в спящей избе:
— Мать, а мать… Ты скажи мне, мать…
— Ну, чего еще? Спи, сынок.
— Мать… Ну, а жизнь отдать? А? Как в присяге: не жалея самой жизни. Как же это, мать? А зачем же тогда…
И старуха насторожилась, приподнялась на локте, вгляделась в молодого солдата, тосковавшего на полу. Она не очень-то вглядывалась в лица, чтобы не увидеть похожих на тех, на своих, а тут вгляделась. Но, видно, его доверчивое вопрошающее, разумное лицо в свете слабого ночника успокоило ее. Она прилегла и, не видя парня, выговорила ему, как своим перед дорогой:
— Неужто же страх остановит, сынок? Не может этого быть… А ты вот чем живи: как бы вред фашисту нанести, убить его, подлюгу. Это посильнее страху. Тут и головушка станет ясная, легкая. И она подскажет, милый, где лечь, а где вскочить, и куда стрелять, и кого колоть… И не пропадешь ты, сынок.
— Верно, верно. И я так думал, — шептал солдат.
И снова через минуту, словно напиться к прозрачному ключу, тянулся с полу к широкой кровати, шептал:
— Мать, а мать!..
А под утро услышал солдат рыдания и сперва не понял, а потом прислушался и догадался: это плакала молодая рядом со старухой, у самой стенки. И ему стало не по себе: верно, муж ей не пишет.