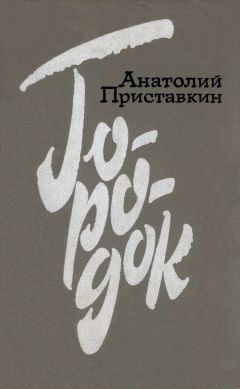— А как я буду жить? — спросил вдруг Валерий, стрельнув серым глазом в Шохова.
— Как! Как! — прикрикнул он.— Как все живут! Будешь работать, есть, спать... Ходить в кино, смотреть телевизор... Вот так!
— Я так не хочу.
— А как ты хочешь?
— Это вы сами так живете, а я буду по-другому жить.
— Чего это, дружок, ты меня вздумал учить? — вскипел Шохов. — В бригаде всех учишь, меня наставляешь на путь истинный, а сам-то, прости, чему ты научился? Из этой трубки палить, да? И то с грехом пополам!
Чего он распалился, и сам не понял. Но где-то, в самом дальнем уголке памяти, мелким уколом всплыло сейчас письмо Мурашки. Там же ясно было сказано, что он но может жить бесчестно. А Шохов, значит, может. Вот на каком уровне, выходит, у них шел разговор.
Оба теперь молчали. Грязноватая дорога, раскатанная машинами, среди крупного соснового бора, шелестела под ними. Шофер, человек незнакомый Шохову, не лез ни с какими разговорами, но вел машину хорошо.
Когда из-за длинного, чуть припудренного серой пеленой поля показалась вдалеке белая колоннада домов, похожих в туманной дымке на мираж, Мурашка, оторвавшись от окна, произнес громко:
— Вы думайте, что хотите, но я уеду. Уеду, и все.
— Да черт с тобой, уезжай,— произнес Шохов равнодушно, но не без скрытого раздражения.— Меньше забот будет. А куда?
— Что куда?
— Куда, спрашиваю, поедешь?
— Не знаю.
— Вот то-то же! — вдруг воскликнул он.— Думаешь, что где-то легче будет? Фигу тебе с маслом! Я тоже уехал, когда с твоим отцом случилось несчастье. Думал, где-то будет лучше... Спокойнее. Я, мол, строитель, и меня ничего другое не касается, так... А жизнь, она, дружок, везде одинаковая, и нигде медом нас не кормят. Вот я и доездился, доискался, смотри на меня! Хочешь таким же быть?
— Нет, дядя Гриша,— сказал Валерий упрямо.— Я таким, как вы, не буду.
— А каким ты будешь? — закричал Шохов. Сорвался все-таки. Довел его до нервов этот сосунок.
— ...Как отец...
— А я, по-твоему, какой?
— Приехали,— прервал Шохова молчаливый шофер. Первый раз вмешался в их разговор. Да уж больно Шохов горячился. И сам понимал, что слишком перед мальчишкой горячится и тем себя выдает.
Когда вышли из машины, неподалеку от Вальчика, Шохов сказал, но уже вполне миролюбиво:
— К нам пойдем. Тамара Ивановна беспокоится же... И потом... Пойми, ты нам и правда не чужой... Ну, пошли, пошли... Тебя в порядок надо привести, умыться....Кстати, можешь поздравить меня, я вчера ордер на квартиру получил.
Сказал то ли серьезно, то ли с некоторой иронией по отношению к себе. Но Мурашка новость никак не воспринял и промолчал. Шел вслед за Шоховым и до самого его дома не произнес ни слова.
«Ну и бирюк,— с удивлением подумал Шохов.— С отцом легче было, у него хоть все наружу, а у этого внутрь ушло все...»
«Великоденные песни. В Малороссии и Белоруссии о Святой неделе поют так называемые великоденные песни, сопровождаемые музыкой. Ходят по домам ночью ватагою, которая называется волочебник. Обыкновенно первая песня обращается к хозяину и хозяйке, в ней прославляется благоразумное домостроительство, то есть домашнее благоустройство, зажиточность, порядок в доме и благочестие, причем упоминают, что святой Юрий запасает им коров, святой Николай — коней, святой Илья зажинает жниво, пречистая мать Успения засевает, а Покров собирает и так далее. После каждой строфы припевают Христос Воскресе...»
— Что он там читает? Что за ересь? — крикнул из кухни Шохов. Он собирал вещи и складывал посуду в ящики.— Вовка, ты что читаешь?
— Народный фольклор,— отвечал сын нехотя.
— Фольклор! Фольклор, а переезжать вы собираетесь?
Шохов появился в комнате раскрасневшийся и злой.
В одной руке у него был топор, а в другой долото. Собственно, сердиться ему было не на кого, это все исходили нервы, напряженные до предела. Надо ж было, разоряя собственный дом, на ком-то сорвать зло.
— Не горячись,— сказала Тамара Ивановна.— Сейчас проверю тетради и буду тебе помогать.
— Но ты не хочешь мне помогать!
— Не хочу.
— Вот так и скажи!
— Я и говорю, что не хочу. И жить в твоем новом доме мы с Вовкой не будем.
— А где, извините, вы будете жить?
— Пока не знаю. Я бы осталась здесь. Но сама понимаю, это бессмысленно.
— Тогда к чему разговоры?
— Мам, а что такое благочестие? — влез в разговор Вовка.
Тамара Ивановна обернулась. Долгим взглядом поглядела на сына, пытаясь переключиться на его вопрос.
Шохов ответил Вовке:
— А это, сынок, когда честь берегут. То есть не воруют, но и своего не отдают... Вообще гордые.
— Вот именно,— добавила Тамара Ивановна, но вовсе не Шохову, а себе.— А у нас гордости нет. И — ничего нет!
— Перестань же! Надоело!
Но Тамара Ивановна и так перестала, занялась тетрадями, а Вовка продолжал бубнить свой фольклор.
— Благоразумное домостроительство... Зажиточность, порядок! К черту! К черту! — пробормотал Шохов и стал одеваться. Застегнув куртку, выскочил на двор и скорей на улицу, чтобы не видеть своего порушенного хозяйства и двора.
Неожиданно вспомнилось, как пророчил ему конец дед Макар, пришедший впервые к его новостройке. Землетрясение, война... Не угадал. Но какая, собственно, разница! Все одно — худо!
Шел Шохов по улице и по сторонам смотрел. Хоть с кем-то словом обмолвиться, объяснить свою трудную жизнь. Посетовать на обстоятельства, что оказались превыше его. Но никто не попадался, хотя была суббота. Последние несколько дней Вор-городок жил затаенно. Все смотрели друг на друга и ждали. А чего ждать, если дело решенное. Многие бросились в общежития на старые места, хватились за комнатку, уголок снимать. И все-таки выжидали...
И уж точно, все взгляды были сейчас устремлены на Шохова. По городку стало известно, что ломать поручено Григорию Афанасьевичу. И потому как бы на расстоянии присматривались, не верили до конца, что он, такой хозяин, свое хозяйство пустит под нож бульдозера. Да еще сам, лично. Не может такого быть... Шохов хват, что-нибудь да придумает...
Люди привыкли верить в чудеса. И чем хуже им, тем больше верят. «А во что можно вообще верить?» — вдруг подумал он.
Остановился посреди улицы (Сказочная!), стал смотреть на дома. Выглядывал, где дымок закурчавится. Суббота, куда людям идти? Сиди у печки да смотри телевизор. Ан нет, печки топились кое-где, а часть домов стыла без дымка, без движения за окошком. Может, уехали? Это он, Шохов, так считает, что на него оглядываются, а они без оглядки, да прежде его!
Расхристанный, с грудью нараспашку, повел измученными глазами вдоль улицы, и страшновато стало. Прямо как в той мертвой деревне, куда он заехал летом на мотоцикле с братом Мишкой. Закричать, что ли... Так не выйдут! К Шохову сейчас никто не выйдет. Его обходят, как зачумленного. А завтра, как в день отъезда Васи, будут тайно в окно выглядывать и шепотком передавать про него несуразицы...
И тут в одночасье решил, что надо сегодня, сейчас, немедля, прийти к ним и все начистоту выложить. Отходную он не делал, горькую не пил, повод, как говорят, не тот. А вот проститься по-человечески надо, адресок свой оставить и в гости пригласить. В городской квартире тоже по-людски надо жить.
Так он и решил, что пройдет по домам, ведь не хлопнут же перед носом дверью, пустят небось...
В возбужденном состоянии, готовый к отпору, к упрекам, даже к оскорблениям, шагнул он в домик-времянку дяди Феди. Его домик стоял ближе всего к Шохову.
Дядя Федя в одиночку жил. И времяночка у него на полозьях, крошечная вовсе, о ней и печься-то нечего. Шохов никогда не бывал у дяди Феди. Да и сейчас не тот случай, чтобы в гости напрашиваться. Сказал, что заглянул на секундочку, словцом перемолвиться. Дядя Федя не удивился и никак не проявил своих чувств. Сухонький, коряжистый, лысеющий (не зря кепчонку всегда носил), он пододвинул Шохову табурет и сам сел. Приготовился слушать.
Для начала еще и вопросик подбросил про Валеру, мол, слава богу, что нашелся, они сейчас тяжелые... И стал мусолить папироску.
— А у вас что ж, нет никого?
— Как нет? Т-р-о-е гавриков, — оскалился дядя Федя.— С бабой, значит, четверо. В деревне сидят.
— Так вы и правда временные,— протянул догадливый Шохов.— Посидели да обратно?
Дядя Федя не согласился с таким определением:
— Как вам объяснить, Афанасьич. У земли давно непонятное происходит. То ее поднимают, то ее опускают. Город-то стабильнее, что ни говори. А мы как бы в промежутке застряли. Сейчас в той деревне, где половчее, тоже городское ремесло развивают более, чем свое. Свое для плана, а городское для живота. А некоторые, те уходят в город сразу, как в пруд головой. А мы еще хоть и порченые, да мхом городским не обросли. У нас ход обратный есть. Так артелью и стоим. Круговня, по-нашенски. Круговщина. Круговая связь, значит. Порознь и пальцы из кулака разогнешь, а когда вместе, так и знаешь: где мы, там и деревня... Не то что вы — корчева!