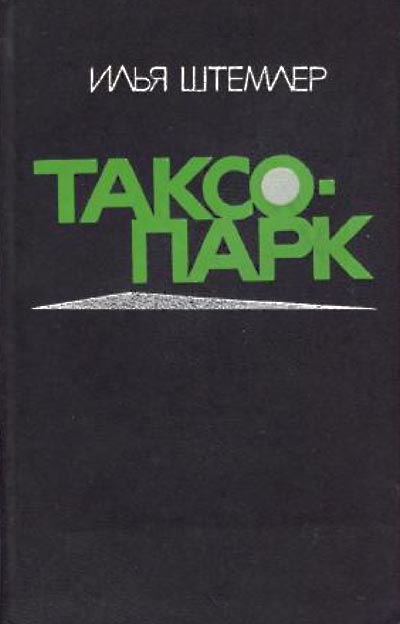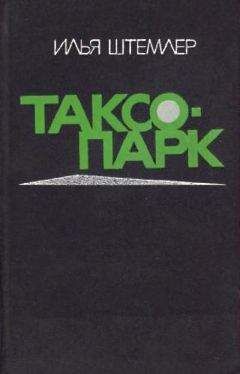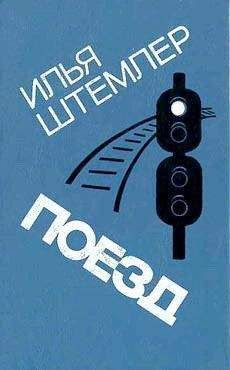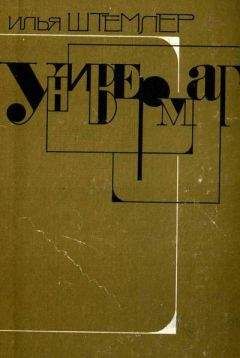площади у таксопарка и пыталась задобрить Тарутина подарком… А потом оказалось, что она просто повидать его хотела.
Тарутин улыбнулся, крепче прижимая к себе ее руку, с искренней сейчас добротой.
Женщина занимала комнату в коммунальной квартире.
— Спят уже. Залегли, — прошептала она и в темноте прихожей потянула Тарутина за руку в конец коридора. Только оказавшись в комнате и прикрыв дверь, она зажгла свет.
— Фу! Как через минное поле. Им только на язык что-нибудь повесь, — улыбалась она, и тушь подтекла под счастливые ее глаза. — Раздевайтесь, Андрей Алексаныч. Мы сейчас с вами закусим, выпьем чего-нибудь. — Она запрыгала на одной ноге, сбрасывая шубу. — Там у меня крючки за шкафом. Вешайте свое пальто, располагайтесь. А я мигом…
Она рывком сорвала с вешалки халат, прихватив что-то еще розовое, блестящее, и вышла из комнаты.
Мебель у нее хоть и новая, но не из дорогих — все, что необходимо. Стол, стулья, два кресла, телевизор, диван-кровать. Вдоль стены тускнел коричневым лаком комплект — шкаф, секретер, сервант, тумба. Очень удобная штука…
Тарутин сел в кресло, закурил и усмехнулся про себя — там, на другом конце автобусного маршрута, тоже была комната, правда, в отдельной квартире, но, по существу, в коммунальной. Он так и не успел познакомиться с капитаном-тралмейстером дядей Ваней и тремя сестрами. Вика почему-то скрывала их от Тарутина, возможно, заранее рассчитывала это расставание, инженер-программист. Только Пафику, собачке, похожей на волосатого человека из старого учебника биологии, удавалось прорваться сквозь кордон…
Женщина вернулась в комнату. Соломенного цвета волосы были выложены крупными кольцами, лишь короткая челка выбивалась из-под этой хитроумной конструкции на гладкий широкий лоб. Красный халат падал с плеч, поднимаясь на крупной упругой груди здоровой, нерожавшей тридцатипятилетней женщины.
— Что вы пьете, Андрей Алексаныч? — Голос ее такой же мягкий, под стать фигуре, округлой и зовущей.
— Все!
Тарутину приятно было чувствовать этот призыв, он почти физически ощущал на своем лице теплоту ее полных белых рук.
Женщина ходила по комнате, собирая из холодильника и шкафчиков какие-то яркие цветные баночки, свертки, бутылки, рюмки, тарелочки, вилки… Все это она весело и щедро расставляла на столе, и стол на глазах оживал, превращаясь в красивую витрину со своей клеенкой, где на желтом фоне были разбросаны хризантемы.
— Вот не думала — не гадала, что вы будете сидеть в моей комнате, вот не думала — не мечтала, — радостно выговаривала она слова, глядя на Тарутина. Вообще, где бы она ни находилась, она старалась не спускать с Тарутина своих больших глаз. — Вы казались мне строгим-строгим. Честное слово, я вас боялась…
— Ну-ну. Не такая вы уж и робкая.
— Это кажется.
— И я только кажусь строгим.
— Не говорите. Мне через окошечко ларька все слышно. Шоферы вас уважают, а кто и боится. Говорят, вы человек строгий, неподкупный.
— А оказалось наоборот…
— Вы не строгий, вы умный. А чего сдуру кричать на всех, страх нагонять? У нас управляющий торга такой. Орет, бушует, увольняет. А толку? Весь торг лихорадит, люди дерганые, злые. А его-то как ненавидят все, все! Знают, что дурак, оттого и орет, чтобы дурь спрятать, работать-то он не может… И почему таких держат?
— Может быть и наоборот: тихий-тихий, а тоже дурак. Оттого и тихий — ума только и хватает, чтобы дурь не показывать, а?
— А вы не наговаривайте на себя! — Женщина повела в воздухе пальцем, и Тарутин между двумя колечками с каким-то камешком разглядел тонкое, обручальное.
— Вы что, замужем были?
— Нет. Это так. Для острастки — среди мужчин работаю, — засмеялась женщина. — Я слышала такой анекдот. Что значит, если женщина носит обручальное кольцо? Значит, она замужем. А если у женщины обычное колечко? Это ничего не значит! А если женщина носит обручальное и простое вместе? Тогда что?
Тарутин пожал плечами.
— Это значит, Андрей Алексаныч, что женщина замужем, но это ничего не значит, вот!
Тарутин засмеялся. И женщина смеялась широко, радостно, красные рукава халата задрались, обнажая белые руки до самых плеч…
— Хорошо мне с вами, — внезапно проговорил Тарутин.
Женщина притихла, точно споткнулась.
— И оставались бы. Я такие вам бы обеды готовила. С работы как угорелая летела бы, только бы вас увидеть поскорее. Все для вас бы делала, все, все… Что еще нужно человеку? Покой, забота. После службы вашей сумасшедшей… А там, глядишь, и привыкнете ко мне, я надоедать вам не стану. Я знаю, когда и на кухню уйти надо, переждать, когда помолчать… Нас знаете как в семье воспитывали, на строгостях. Я в деревне жила под Ставрополем, у нас строгости в семье были, от горцев влияние большое, у них, у горцев, в семье каждый свое место знает… Вот и оставались бы у меня. Квартира у нас спокойная, друг дружку уважаем. И телефон у нас есть, в коридоре…
— Вот! Это разговор, — смущенно улыбнулся Тарутин, он не ждал такого бурного объяснения и растерялся. — Телефон — это здорово, — пытался отшутиться он, а получилось серьезно. — На работу мне позвонить не мешает, я всегда ночью звоню. А у вас уже спят в квартире, неудобно…
Женщина выскочила в коридор и через мгновение внесла в комнату телефон. Длинный шнур волочился по полу. Она поставила аппарат на колени Тарутина и отошла, довольная и раскрасневшаяся.
— Нечем крыть! — Тарутин снял трубку и набрал номер. Ответил дежурный диспетчер Поляков. — Что там у нас, Поляков? Какие новости? Снег-то большой…
— Да, уже наломал дров снег этот, черт бы его взял, — невесело ответил дежурный.
— А что такое?
— Катастрофа на Северном шоссе. Водителя убило. Пассажиров не было. В бульдозер врезался из-за пьяного. Пятая колонна. И молодой парень. Чернышев Валерий… Вы меня слышите?
Голос диспетчера шуршал, точно таракан по бумаге, — то останавливался, то брел дальше… Тарутин отстранил трубку от уха.
Круглое лицо женщины стало оплывать, раздваиваться. Пухлые ее губы что-то произносили…
Тарутин