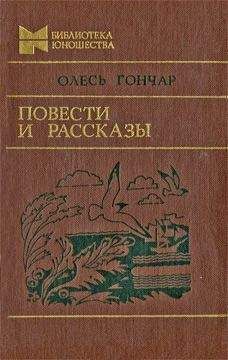— Товарищи, — сказала Ляля, с любовью произнося это слово. — Товарищи. — Она раскрыла свою сумочку и достала оттуда свернутую трубочкой бумажку. — Я написала листовку о сегодняшних событиях.
— Читай, — хмурым голосом сказал Леонид.
Ляля ровным голосом прочитала текст:
— «Товарищи полтавчане!
Сегодня на Огневом Поле, напротив Красных казарм, немцы расстреливали советских военнопленных. Они нарочно устроили расправу на видном месте, на глазах у населения. Этим палачи хотят запугать нас, убить в наших людях веру и способность к борьбе.
Не выйдет!
Поклянемся кровью наших павших братьев, что не покоримся оккупантам.
Кровь за кровь!
Смерть за смерть!»
Товарищи внимательно слушали. Закончив читать, Ляля посмотрела на них. Сквозь седой табачный дым взгляды юношей горели далекими немигающими огнями.
— А это и в самом деле не случайно, что они вывезли убивать их на глазах у всего города, — прервал молчание Ильевский.
— Но не случайно и то, — воскликнул Пузанов, — что именно в этот день мы создаем свою организацию!
— Давай нам, — обратился Валентин к Ляле, — мы с Борисом размножим. У меня есть черная тушь.
— К утру будет двадцать штук! — вырвалось у Бориса. — Нет, не двадцать, а сто двадцать, — поправился он гневно.
Ляля смотрела на Бориса такими глазами, словно перед ней была задушевная подруга, поверенная сокровенных тайн. Если в обращении с другими Ляля всегда держалась просто и естественно, то перед Сергой ей хотелось быть еще лучше, привлекательнее, чем она была на самом деле. Хотелось быть в его глазах необычайно красивой, безупречной в поведении. Боря, единственный из присутствующих, лично знал Марка Загорного и об ее отношениях с ним. В присутствии Бориса у девушки пробуждалась неопределенная, почти не осознанная разумом надежда, что Серга запоминает каждый ее поступок и когда-нибудь, встретившись с Марком, обо всем ему расскажет.
— Только как подписать листовку? — заколебалась Ляля.
— От имени организации, — предложил Пузанов.
— Конечно, но как?
Внесли несколько предложений. Больше всех поправилось Сережкино: «Непокоренная Полтавчанка».
— Это будет и твой собственный псевдоним, — пояснил он, — и одновременно название всей организации. Наш девиз. Словно манифест.
— Врут они, что уничтожили партизан, — неожиданно произнес Валентин, краснея. Товарищи посмотрели на него. — На днях к бате заходил знакомый из совхоза «Жовтень»[3], рассказывал, что в Шишаках сейчас действует отряд какого-то товарища Куприяна.
Леонид насторожился.
— Где это Шишаки?
— Не за морями, — продолжал Сорока. — Одни говорят, что это секретарь Шишакского райкома партии, другие говорят, что это Кондратенко.
— Секретарь обкома? — встрепенулся Ильевский.
— Да. — Жесткий крепкий чуб торчал на голове Валентина непокорным гребешком.
— В Зинькове немцы после боя с отрядом товарища Куприяна похоронили больше сотни своих германов… В Гадячских лесах действуют несколько отрядов. Про «Гранита» слыхали? А про «деда Ивана»?
— Надо попробовать связаться, — сказал Пузанов.
— Я пойду в совхоз, — горячо воскликнул Ильевский. — Найду! Свяжусь! Там наши родственники!
— Не горячись, Сережка, — спокойно сказала Ляля. — Будет работа, будет и связь.
— В Писаревщине, — дальше рассказывал Валентин, как сказку, — убили четырех эсэсовских офицеров и самолет сожгли…
— Пора и нам открывать счет, — нетерпеливо встал Пузанов.
— Я уверен, — посмотрел Серга на Лялю, — что в самом городе тоже существуют организации. Разве тут мало осталось коммунистов и комсомольцев? Быть может, не в одном доме происходит сейчас такое совещание. Быть может, они вспоминают и нас, так сказать, в плане гипотезы, лишь догадываясь о нашем существовании.
— Вполне возможно, — улыбнулась Ляля.
— Но как их нащупать? Жаль, Ляля, что нам в университете не читали спецкурса по практике подпольной работы! — сокрушенно сказал Серга. — А теперь плавай. Вот как, скажем, подать другим сигнал о себе?
— Действиями, — сказала Ляля. — Это теперь единственный пароль! Действиями дадим знать о себе местному подполью, а может, и нашим… на Большую землю.
Она впервые употребила это слово, врезавшееся в память со времен полярной эпопеи. Сейчас оно воспринималось всеми по-новому и было наполнено куда более широким смыслом.
— На Большую землю!
Всеми овладело приподнятое настроение от радостного предчувствия серьезной деятельности.
— А теперь давайте поговорим конкретнее, — сказала Ляля. — Прошу к столу. Распределим обязанности и скрепим подписями. Кто будет записывать?
— Пускай Сережка, — предложил Борис. — У него почерк как у Нестора-летописца!
…Поздно ночью от дома Убийвовков снова расходились неприметные фигуры. Тихо растворялись в осеннем мраке. Будто выступали в путь молчаливые политруки, расстрелянные на Огневом Поле утром.
На рассвете город забелел первыми листовками: «Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
И гордая подпись: «Непокоренная Полтавчанка».
IX
С тех пор как Ляля, начав активно действовать, почувствовала себя настоящей подпольщицей, со строгими обязанностями и ответственностью перед другими, — с того момента жить ей стало легче. Словно бы с трудом выбралась наконец из глубокого снега и вступила на чистый лед. Хотя какая-то тень внутреннего напряжения, упавшая на нее в день расстрела политруков, так и не сходила до сих пор; даже смеясь и радуясь, девушка не могла освободиться от этого напряжения, которое было заметно в движениях, в выражении глаз, лица; хотя она, быть может, лучше других понимала опасность избранного пути, — все это не только не угнетало, а, наоборот, укрепляло ее. Ляля почувствовала, как борьба, начатая ими, внутренне очищает, облагораживает ее самое.
Обкомовский связной, докладывая секретарю подпольного обкома партии об одной из первых своих встреч с Лялей, заверил, что девушка быстро осваивается в новых условиях, что из нее вырастает настоящий руководитель подпольной комсомольской группы.
Бывая теперь на людях, Ляля не испытывала того тяжкого гнетущего стыда, который сжигал ее в первые дни оккупации. Теперь на улицах она высоко, как и прежде, поднимала голову в белом берете, охотно встречая взгляды знакомых, которые тоже словно бы говорили ей: «Мы знаем, Ляля, что ты осталась такой, как была, то есть, возможно, стала даже лучше, чем была. Мы знаем, что ты не оскорбила ничего святого, ни от чего не отреклась. Да, в конце концов, другого мы от тебя и не ждали».
Возможно, подталкиваемые именно этой уверенностью в ней, многочисленные мамины знакомые, близкие и не совсем близкие, встретив Лялю, оглядываясь, спешили порадовать ее приятными новостями. Полтава была полна оптимистических слухов, которые в большинстве своем и рождались тут же, в самом городе. И эти радужные выдумки народного оптимизма преподносились Ляле одной из первых как таинственные радостные подарки.
— Ты слыхала, Ляля, поговаривают, будто уже открылся второй фронт, — шептали ей в одном месте.
А в другом:
— Взят Ростов! Немцы удирают из Донбасса…
А еще чаще спрашивали Лялю: что слышно там? И кивали на восток. Как будто она должна знать больше, чем они. И Ляля каждый раз беспокоилась в душе, получится ли что-нибудь с радиоприемником, который взялся смонтировать Валентин. Вот тогда бы она ответила всему городу сразу!
Полтава гудела. Хотя прошло уже несколько месяцев оккупации и, казалось бы, должна была появиться хотя бы видимость мирной жизни тыла, однако такой жизни не было. Все глухо кипело, бродило, роптало. Полтава, находившаяся в сотнях километров от фронта, оставалась до сих пор на военном положении.
В лесных районах области действовали партизанские отряды секретаря подпольного обкома партии. Указания, призывы и директивы город регулярно получал в весьма своеобразной форме — в форме прошитых пулями полуживых карателей, которых оккупанты еженедельно мрачно свозили из дальних и близких районов в свой городской госпиталь. Эти беспощадные директивы указывали каждому путь его действий.
Поздней осенью и с первыми метелями из Харькова на Полтавщину хлынул поток голодающих. Мимо дома Убийвовков за город на Кобеляцкий тракт целыми днями со скрипом двигались тележки, запряженные женщинами, подталкиваемые детьми и стариками. Этот голодный, бесконечный скрип разрывал на части сердце девушки. Везли соль, мыло, зажигалки, белую глину… Менять, менять, на кусок хлеба менять! В центре города этих несчастных грабили немцы, на окраинах по-разбойничьи встречали полицаи, в полях они сами замерзали, обессиленные, на обочине дороги. Прозвали этих людей «менялами». Внезапно и дико ворвалось в жизнь это прозвище, порожденное лихолетьем! Не знали такого слова советские люди до войны! Теперь оно слышится все чаще и чаще. «Менялы…» Будто и в самом деле речь шла о каких-то первобытных менялах древних мрачных веков.