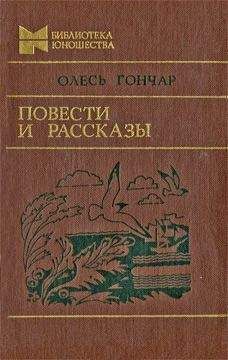Ильевский смотрел на возбужденную Лялю, и темные глаза его сияли.
— А ты здорово это подметила: вера в народе не угасает. Не чувствуется у нас беспросветного мрака!
— Как во вселенной, в макрокосмосе: среди безграничной темноты — бесконечные солнца, солнца, солнца! Ну, пусть, может, я преувеличиваю, но ведь огни борьбы, молнии ненависти действительно раз за разом разрывают эту оккупационную ночь!..
— Ты уже заговорила, Ляля, как поэтесса… А впрочем, где борьба, там и поэзия; кажется, так всегда было…
Прямо с работы зашел Пузанов — в мазуте, в куцей своей обтрепанной шинели. Весело поздоровавшись с Лялей, заглянул через порог на кухню:
— Тетя Оля, вы дадите мне теплой воды?
— Хоть кипятку, — откликнулась Сережкина мать.
Леонид пошел умываться. Шумно плескаясь, фыркая, он кричал из кухни товарищам:
— Городскую управу переименовали — слыхали? Отныне городской управы нет… Есть бургомистрат! Запомните…
— А ту желто-голубую[4] тряпку, которая висела над управой, еще позавчера сняли, — сообщила, в свою очередь, тетя Оля.
— Накокетничались, — сказала Ляля равнодушно.
Славное море, священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка! —
напевал Леня, умываясь.
— Тише, Леня, — заметила Ильевская. — У соседей офицер стоит…
— А ну их ко всем чертям! Надоели.
И затянул еще громче:
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко…
Ильевская смотрела на него, сдерживая добрую улыбку.
Умывшись, Пузанов снова вошел в Сережкину комнату и, пристально и серьезно глядя на Лялю, молча полез рукой в правый карман брюк.
Сережка следил за рукой Леонида, как мальчонка, ждущий краюху «от зайца».
Вместо краюхи Леонид, громко стукнув, положил на стол ржавую ракетницу. Потом точно так же молча, улыбаясь одними глазами, вытянул из левого кармана брюк вторую ракетницу и, еще сильнее стукнув ею, тоже положил на стол.
X
Валентин Сорока и Боря Серга жили на Подоле, в том районе Полтавы, который сбегал с южного склона белыми домами прямо на луга, ровные, просторные, тянувшиеся до самой Ворсклы, спрятанной в берегах. Там начиналось раздолье, там открывался вожделенный мир полтавской малышни! Сияние реки, белые песчаные берега, тени развесистых верб, с ветвей которых можно было прыгать прямо в воду, — с чем это сравнить?!
Дома, в которых жили хлопцы, стояли напротив, через улицу, сады их плотно переплелись ветвями, так же переплеталась тут через дорогу юная мальчишечья дружба. В школе Валентин хватал преимущественно тройки, а Борис был честным отличником, и на собраниях его под аплодисменты избирали в президиум. Зато на уроках физики учитель брал себе в ассистенты только Валентина. Лопоухий, курносый паренек с пылающим от постоянного смущения кругленьким лицом демонстрировал товарищам вольтову дугу так смело и уверенно, будто сам ее изобрел.
Валентин в самом деле считался одним из лучших изобретателей в школе и в городском Дворце пионеров. Беззаботно относясь к другим наукам, он мог до самозабвения отдаваться делу, связанному с техникой, работе в радиокружке или в кружке авиамоделистов. Поджав под себя ноги, сопя и шмыгая носом, Валя просиживал в мастерской Дворца до позднего вечера, мастерил, ломал, переделывал законченное, пока, сторожиха не напоминала ему, что пора собираться домой. Тогда он бежал по длинному коридору Дворца в библиотеку, где Борис наслаждался чтением книг. Валька звал друга, и они вместе отправлялись домой. Если это было зимой, то они, сев прямо на лед, по-ребячьи съезжали с горы до самого Подола.
Дома Валя провел через улицу телефон к Борису. Мало того что они целыми днями были вместе, вместе взбирались на гору по дороге в школу и вместе возвращались оттуда — перед самым сном им тоже хотелось бы обсудить неотложные вопросы, договориться о делах на завтра, — вот с этой целью Валентин и провел телефон. Правда, разговаривать по этому телефону было невозможно, слова не разберешь, но разве это так уж важно? Главное, что гудеть — просто: гу-гу-гу! — можно было сколько твоей душе угодно.
И весной, проснувшись утром, когда весь мир за окном щебетал и солнце напускало полную комнату веселых зайчиков, ребята радостно гудели друг другу через улицу, давая знать, что я, мол, уже встал, что мне хочется резвиться, озорничать, что тебе тоже этого хочется, что мы сейчас встретимся и помчимся без оглядки до самой Ворсклы, и пусть нас ищут матери хоть целый день, мы будем плыть по реке, поплывем хоть на край света, лежа спиной на воде — черными от загара животами вверх, к синему небу… Так или приблизительно так можно было бы перевести на человеческий язык то, о чем гудели друг другу здоровые краснощекие ребята в те весенние утра, и этот гул ничем не омраченной первой дружбы запал им обоим в душу навсегда.
И в самодеятельных кружках Дворца пионеров, и дома Валя сооружал маленькие двигатели, мастерил игрушечные электропоезда, фотографировал самодельным аппаратом ровесников-сорвиголов со всего Подола, а в школе озорничал, и отца то и дело вызывали к завучу. Возвратившись домой, строгий батя давал сыну хорошую взбучку, громил его модели, а курчавый малыш с каштановым чубом, за который его только что оттаскали, оттопырив свои полные, как у негра, губы, угрожал отцу, что пойдет жаловаться на него в милицию. Однако в милицию он не ходил, а вместо того строгал модели заново, их посылали на республиканские выставки, а Валентин уже снова стоял перед учителем красный, насупившийся, с руками в ссадинах и с достоинством принимал наказание за свою очередную выходку. Тут появлялся любимчик учителей, круглый отличник Боря Серга, оратор и книжник, и, задрав к учителю свой острый нос, стрелял скороговоркой, извиняясь за своего друга Вальку, который не умел просить извинений. Если же умолить учителя не удавалось, Боря просил, чтобы уготованное для Валентина наказание разделили им на двоих, потому что так легче переносить наказание, а отдельно они «вообще не могут».
Отдельно они и в самом деле не могли. И позднее, когда Борис, будучи студентом, приезжал из Харькова на каникулы, а Валентин работал учеником механика на городской электростанции, — и тогда, встретившись, они сидели до поздней ночи в саду, сидели все лето и никак не могли наговориться друг с другом. Ночи были чистые и синие, как море, они были насыщены всеми запахами лета, дыханием вечной молодости; по всему Подолу, до самой Ворсклы, пели и перекликались сотни Каталок-Полтавок, и в тон им вторили сотни беззаботных Петров, и тогда Валентин не мог усидеть на месте, какой-то веселый бес искушал его отколоть номер посмешнее. И он, закутавшись в простыню и став на сучковатые ходули, шел по садам вспугивать влюбленных, а культурный Борис, хотя и стоял «выше этого», все же сопровождал своего друга. Потом Валька, встретив молодых подолянских забулдыг, наводил их на институтский сад, а Борис, который был «выше этого» и считал, что неприлично забираться в сад через забор, подходил к сторожу и вел переговоры. Он честно говорил деду, чтобы тот подержал собаку, пока они управятся, потому что иначе и собаке будет беда, и деду — морока, и у хлопцев штанов не так уж много… К тому же, работая спокойно, они и ветвей не повредят, и лишнего не нарвут, а просто полакомятся. Наверное, Борис был хорошим дипломатом, потому что дед-сторож иногда и в самом деле держал свою собаку за ошейник, пока хлопцы «паслись».
Потом, грызя кислые даровые яблоки, Валентин и Борис снова сидели в своем саду. Валька строил ракетопланы по Циолковскому, а Борис конструировал их по-своему, пока мать Валентина — крупная, солидная женщина — не начинала ворчать, появившись на крыльце: долго ли они еще будут гудеть и не пора ли им спать.
— Мы уже кончаем, — отвечал Валентин матери.
А через час выходила мать Бориса и, поскольку они все еще ломали в саду голову над ракетопланом, тоже начинала кричать через дорогу — не пора ли им спать, потому что завтра не добудишься.
— Мы уже кончаем, мама! — кричал Борис через дорогу.
Однако расходились они только тогда, когда небо на востоке розовело, как застенчивая девушка, а в низине, над лугами, далеко видны были седые волны-переливы рассветных туманов. И каждый раз у них оставалось много такого, о чем они еще не доспорили и не досоветовались, с сожалением перенося это на следующий вечер.
А теперь оба были уже взрослые, и сад их стоял голый и неосвещенный. Подол поглядывал на мир темными глазами, как изнуренный узник. И были они теперь не одни, и принадлежали не только самим себе, а жила еще в противоположном конце Полтавы высокая девушка с детским именем и золотистыми волосами, которая давала им задания; был на Первомайском проспекте симпатичный картавый поэт Сережа, который послезавтра пойдет по заданию на село; был на «Металле» отчаянный и задушевный сибиряк Ленька, которому поручено готовить оружие, были еще где-то неизвестные друзья, возможно, даже тут, под боком, и все они решили бороться, и не столько решили, сколько это как-то само собой решилось, потому что иначе они не представляли своего существования.