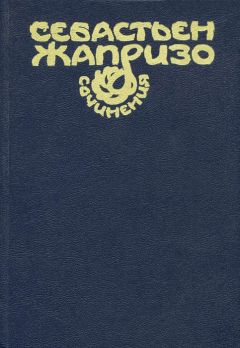Однажды я совершенно случайно познакомился с очень милой девушкой, фармацевтом из местной аптеки, которая чем-то напоминала мне Ехевед. Это меня пленило, мы стали часто встречаться. Вскоре она переехала ко мне. Это была тихая, славная женщина, внимательная и преданная, но к музыке она была не то что равнодушна, а просто ее не понимала. Бывает же такая — врожденная, что ли, — глухота к музыке, поэзии. Не было в ней жадности к знаниям, остроты ума Ехевед. Ее мир ограничивался нашей комнатой, аптекой, заботами обо мне. Ничто больше ее не интересовало. И вытащить ее из этой скорлупы, из домика-улитки было невозможно. Сходство с Ехевед было лишь внешним.
Я всячески старался подавить в себе разочарование, прилагал все усилия, чтобы она ничего не заметила, — старался быть заботливым, предупредительным. Если б она от меня ушла, я был бы счастлив, хотя она ни в чем не была передо мной виновата. Оставил бы ей нашу новую квартиру и все наши приобретения, все, кроме виолончели. Но самому уйти было невозможно. Невозможно причинить боль беспомощной, одинокой женщине, да она просто этого не заслуживала. Росла сиротой — родителей расстреляли колчаковцы, тяжело болела. И после этого детей уже рожать не могла. Как же можно нанести ей еще один удар…
Казалось, что я уже готов смириться со своей судьбой. И вдруг — это было в начале тысяча девятьсот тридцать девятого года — меня пригласили в турне. Я с радостью его принял. Ведь концерты предстояли в Минске, Ленинграде, Одессе, Киеве, где я еще ни разу не выступал, в городах, которые славятся свой высокой музыкальной культурой. К тому же с Минском и Ленинградом у меня были связаны такие дорогие воспоминания.
Это был настоящий праздник. Концерты проходили при переполненных залах и, как отмечала пресса, с Успехом.
Последний день моего пребывания в Минске был свободным — поезд на Ленинград уходил вечером, и я не мог отказать себе в удовольствии съездить в пограничное местечко, которое находилось всего в нескольких часах езды, где когда-то так прекрасно провел лето. Порой мне казалось, что все это привиделось, что это лишь моя фантазия и нет вообще такого местечка.
Утро выдалось пасмурное, пахло дождем, но разве погода могла быть помехой.
Молодой шофер домчал меня на «эмке» до знакомых мест. Машину я попросил остановить в самом начале главной улицы, где когда-то собиралась молодежь, оглашая окрестность звонкими задорными песнями. Хотелось побродить одному, побыть наедине.
Утопающие в зелени домики. На крылечках молодые мамы с ребятишками на руках. Возможно, мои бывшие пионерки. Мог ли я их узнать? Ведь прошло с той поры пятнадцать лет. И они оглядывали меня, как незнакомого им человека. Однако главная улица выглядела такой же, как я ее запомнил. На том же месте — клуб, парикмахерская, местечковый Совет, рынок. Здесь, возле почты, на следующий день после нашей первой встречи меня ждала Ехевед. А я не пришел из-за Пини. По этой стороне улицы она прохаживалась мимо клуба со своими подругами, когда я репетировал, потом выходил к ней. На этом углу она и я, незаметно отстав от компании, сворачивали. Здесь, на склоне, я впервые увидел се… В голубом сарафане с белыми крапинками… Как хороша была она! Блестящие золотистые волосы тяжелой волной падали на тонкие плечи…
На каждом шагу мне что-либо напоминало о Ехевед, и сердце учащенно «билось.
Я прошел мимо пожарной каланчи, где мы укрылись от ливня, побывал у реки, на зеленом лугу и в березовой роще — во всех местах, где мы встречались, и, наконец, очутился на тихой улице, где жили ее родители.
Вокруг никого не было. Несколько раз я прошел мимо осевшего деревянного домика. И дом, и крылечко, казалось, стали меньше, зато клены разрослись, тесно сомкнув вверху свои пышные кроны.
На входной, давно не крашенной двери висел замок. Поддавшись непреодолимому желанию, я поднялся па крылечко, притронулся к перилам, которых когда-то касались руки Ехевед. И сел на выступ каменной кладки, где обычно сидел. Вот здесь — я, а вот здесь — она. Казалось, я снова слышу, как в последнюю нашу встречу, прижавшись ко мне, счастливая, улыбающаяся, Ехевед шепчет: „Как бы я хотела, чтобы мы всегда были вместе…“ „Вместе“… А я даже не знаю, где она сейчас, в эту минуту. Что делает? Как выглядит? Как ей живется? Девять лет ничего о ней не знаю. Вспоминает ли хоть иногда это крылечко? Помнит ли хоть что-либо связанное с тем летом?
…Поблизости раздались чьи-то шаги. Я поднялся, хотел уйти, но поздно? На крылечко поднялась еще стройная, несмотря на преклонный возраст, женщина с хозяйственной сумкой в руке.
— Вы к реб Ицхоку? — спросила она, внимательно меня оглядывая. — Сегодня день поминовения его дедушки, пусть ему земля будет пухом, реб Ицхок еще в синагоге, но скоро придет.
— Нет, нет, я только на минутку присел отдохнуть, — растерянно ответил я, узнав в этой приветливой женщине со следами былой красоты мать Ехевед.
— Почему же на крылечке, зайдите в дом, — радушно пригласила она, снимая с двери незамкнутый замочек. — Вы, я вижу, не из местных. Пожалуйста, заходите!
По правде говоря, я не имел особого желания сейчас встретиться с ребом Ицхоком, который в свое время приложил немало усилий, чтобы оградить от меня Ехевед и умышленно проводил ее в Минск, к самому ленинградскому поезду. Мне не хотелось, чтобы он и сейчас меня здесь застал. А как меня тянуло в этот дом, где прошли детство и юность Ехевед… И, кроме того, мне очень хотелось хоть что-либо узнать о ней.
Хозяйка провела меня через чистенькую прихожую в светлую просторную комнату.
Над круглым, покрытым белой скатертью столом висела большая лампа-молния. У одной стены стоял резной старомодный буфет, у другой — старенькое, с потрескавшимся лаком фортепьяно, на котором когда-то играла Ехевед. Ее гостеприимная мама пригласила меня сесть и стала добродушно расспрашивать, откуда я приехал, долго ли пробуду и какие дела привели меня в это забытое богом местечко на самой границе.
Я ответил, что задержусь всего несколько часов, много лет назад я здесь чудесно провел лето, — и спросил, знает ли она что-нибудь о Пине Швалбе, Берле Барбароше, Хоме Шалите и других моих знакомых тех давних дней.
Несмотря на мои протесты, хозяйка принесла мне большую чашку компота и, сев напротив, стала обстоятельно и с удовольствием делиться со мной местечковыми новостями. Пиня Швалб учился в Москве и вот уже несколько лет — председатель Дубровенского горсовета. Недавно приезжал на похороны своей матери. Его старшая сестра — директор Койдоновской трикотажной фабрики, младшая — хетагуровка, уехала на Дальний Восток, работает в Комсомольске и вышла там замуж за чуваша — командира Красной Армии. В их доме сейчас живет еврейская семья, бежавшая из Германии; им чудом удалось спастись… Хозяйка приложила к губам уголок платка и подняла глаза, в которых стояли слезы. Видно, во всех подробностях знала, каково пришлось там, в Германии, этим беженцам.
Справившись с волнением, она продолжала свой рассказ. Берл Барбарош — старший агроном района, женился на красивой белорусской девушке, учительнице. Хома Шалит, летчик, говорят, он сражался в Испании, был ранен, теперь учится в военной академии. Янку Мокаенка, это который был в районе начальником над комсомолом, его в тридцатом году кулаки убили. Подкараулили ночью, беднягу, и из обреза… Ну, а Ошер-возчик, Симха Рыжий и еще много других семей, те теперь в колхозе. И кто бы мог подумать: колхозным председателем стал Ошер. В большом ходит почете, А молодежь разъезжается. Всех тянет в большие города. Потом забирают к себе родителей. Старушка, которая жила рядом с клубом (она говорила о мое» хозяйке), переехала в Харьков к сыновьям. Они на тракторном заводе работают. В ее домике поселилась другая семья, тоже беженцы из Германии.
— Боже мой, боже мой, чего только мы не наслушались от немецких евреев. Откуда, скажите мне, взялся этот разбойник, этот Гитлер? Какая ведьма произвела на свет такого выродка?! Лучше бы он подох еще в ее утробе! — гневно воскликнула женщина. — Почему молчит мир?! Почему позволяют зверствовать кровавому Гомон-разбойнику?! — Она взглянула испытующе, знаю ли я эту мифологическую личность, собиравшуюся уничтожить всех евреев.
Я кивнул, и она гневно продолжала:
— Почему не наденут на него смирительную рубашку? Кто знает, на кого он теперь кинется. А мы живем у самой границы. Упаси бог, не началась бы война… Как вы думаете, он и на нас нападет?
Я ее успокоил, уверяя, что войны не будет. Сам я тоже тогда так думал.
— Дай бог, — покачала она седой головой. — Пусть наши дети и внуки не знают этого. Пусть они будут счастливы. Господь бог нас благословил четырьмя дочерьми. Все способные, у всех светлые головы. Если б вы их видели! Красавицы. И зятья, благодарение всевышнему, тоже славные, работящие. И внуки, дай им бог здоровья, тоже удачные, чудные дети. — И она стала оживленно рассказывать про каждую дочку отдельно.