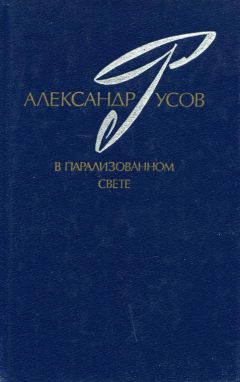Когда-то он имел несчастье полюбить и жениться, но три года назад обрел свободу вместе с твердой уверенностью в том, что жизнь кое-чему его научила. Уж таким ангелом казалась поначалу женщина, которую он любил. Теперь же все, что принято называть хорошим воспитанием, человеческим обаянием, женской привлекательностью, действовало на него как красное на быка. Разочаровавшись в самом дорогом, Гурий Михайлович почувствовал вдруг неожиданное облегчение. Одиночество было лучше, чем непонимание, постоянные нервотрепки, хитрость, неверность, корысть, обман.
Нежелание проявлять гибкость в отношениях с людьми снискало ему репутацию человека трудного и неуживчивого. После окончания института с отличием он пришел работать в институт одновременно с Триэсом и с тех пор прозябал в должности младшего научного сотрудника. Нет, не умел он заискивать, клонить голову перед начальством. Да и не хотел. Всегда резал правду в глаза. И кого только не повысили за это время!.. Гурий не сомневался, однако, что его час наступит. Знал истинную цену физическим своим возможностям и научным. В честном открытом бою свалит любого. Кажется, в институте уже поняли, что он сделан из прочного материала. Ведь и Триэс жал на него, и Ласточка уговаривал, а сделать ничего не смогли. Так что кротонами в конце концов пришлось заниматься Аскольду. Тоже влип ни за что бедняга…
Гурий включил радиоприемник, достал из холодильника и шваркнул на раскаленную сковородку увесистую отбивную. Капли горячего масла брызнули во все стороны. Он едва успел отскочить. Пока жарилось мясо и грелся чайник, Гурий достал хлеб, поставил на стол единственную имевшуюся в доме большую тарелку, умылся, оделся, убрал постель и вернулся на кухню с таким агрессивным видом, будто кто-то был виноват в том, что завтрак еще не готов.
Только после сытной еды Гурий Михайлович несколько подобрел. Прежде чем отправиться на работу, он со снисходительной усмешкой выслушал заверения проникновенного женского голоса по радио, обещавшего на сегодня теплую, ясную погоду без осадков, и демонстративно бросил складной зонтик в бездонный поношенный свой портфель, где без труда умещались и недельный запас продовольствия, и дюжина бутылок пива, и маленькая библиотека — едва ли не все сведения по органической химии, накопленные любознательным человечеством за долгую историю.
О третьем же сотруднике лаборатории, Аскольде Таганкове, можно сказать и того меньше. По окончании Московского университета он добровольно поехал работать в Институт химии к черту на кулички, что удивило многих, поскольку его, единственного выпускника, оставляли в университетской аспирантуре. Было ли это романтическим порывом души или осознанным желанием немедля заняться большой наукой, так и осталось загадкой для окружающих. Еще студентом Аскольд испытал страсть прирожденного исследователя, но решительность его первого шага свел на нет весь ход последующих событий. Как и многих других выпускников, Аскольда ожидал сокрушительный крах студенческих иллюзий, учрежденческая рутина, многолетний застой. Тем не менее он не утратил способности думать, и случалось, былая страсть вспыхивала в нем как рецидив старой болезни. В такие часы и минуты им овладевали какие-то бредовые, полуфантастические идеи смелых химических превращений, которыми просто не с кем было даже только поделиться, ибо шеф, к сожалению, был постоянно слишком занят, чтобы вникать в эти проблемы по существу, а каждый из остальных научных сотрудников слишком поглощен собственными заботами, чтобы разделить беспочвенный энтузиазм молодого коллеги.
В то утро Аскольд, как и Гурий Каледин, не проспал положенного часа, но, в отличие от Гурия, проснулся без будильника, позавтракал не плотно и не легко, то есть как обычно, снял с вешалки привезенный еще из Москвы плащ «болонью», чтобы взять с собой, однако в последнюю минуту что-то отвлекло его — и в результате он ушел из дома с пустыми руками, о чем мог нисколько не сожалеть, ибо плащ ему и в самом деле совсем не понадобился.
Что следует отметить особо, так это отрадный во всех отношениях факт своевременной явки на работу 2 июля всех сотрудников лаборатории, несмотря на временное отсутствие ее заведующего. Даже обычно опаздывающие лаборантки не опоздали, поскольку их в этот день просто не было.
В половине десятого раздался звонок из дирекции. Ласточка ответил, что Сергей Сергеевич в командировке. Последовало то ли удивленное, то ли возмущенное:
— Как же так?!
— Вчера улетел.
В трубке коротко запиликало.
Затем Валерий Николаевич отправился подписать заявку на перевод, но начальника отдела не оказалось на месте. Поймал он его лишь после обеда возле кабинета заместителя директора, где только что окончилось расширенное заседание Президиума научно-технического совета. Игорь Леонидович тут же, в коридоре, поставил свою неразборчивую подпись на бланке и велел прислать к нему Таганкова.
Валерий Николаевич сразу насторожился. Вздрогнул хохолок на макушке. Если у Сироты возник какой-то вопрос к сотруднику их лаборатории по служебной необходимости, то говорить прежде всего следовало с ним, Ласточкой, на время отсутствия Сергея Сергеевича исполняющим обязанности заведующего. Однако просьбу начальства он Аскольду, естественно, передал.
Не позднее половины шестого Таганков вернулся от Игоря Леонидовича. В семнадцать сорок или около того (Валерий Николаевич не догадался взглянуть на часы) отключили вытяжную вентиляцию. Минуту спустя в наступившей тишине что-то хрустнуло и зазвенело.
— Надоело! К черту! — послышался какой-то придушенный голос Аскольда.
— Что случилось? — спросил Валерий Николаевич.
— Невозможно работать.
— Тягу сейчас включат.
— То кротоны проклятые, — точно в бреду забормотал Аскольд, — а теперь еще это…
Дрожащими руками он расстегнул на груди траченный кислотой халат, весь в желтых пятнах химикалий, и принялся выдергивать руки из рукавов, неловко выворачивая локти. Движения его были замедленны и несогласованны. Пошатываясь, подошел к умывальнику, вымыл руки, и, пока вытирал их, комкая мятое вафельное полотенце, его исполненный нечеловеческой тоски взгляд был устремлен в окно, возле которого уже порхали и кружились неутомимые белокрылые бабочки.
ПРИЭЛЬБРУСЬЕОткрыв глаза, Триэс с недоумением огляделся. Он сидел почему-то в глубоком, мягком, обтянутом искусственной кожей кресле в чрезвычайно неудобной позе. Тело затекло, холодные мурашки сбегали по плечам и спине, шея болела. Прямо напротив, в нескольких шагах, тянулась стойка. Чуть правее таблички с надписью «Администратор», укрепленной на тонкой хромированной подставке, возвышалось нечто непонятное — то ли крупное осиное гнездо, то ли небольшой муравейник. В одной из дальних ниш обширного холла бойкие молодые люди в темных костюмах и при галстуках прилаживали узкий длинный плакат «Привет участникам конференции!»
События минувшего дня воспринимались как сон. Уже затемно они добрались до гостиницы «Приэльбрусье», однако с ночлегом сразу возникли сложности. Им сообщили, что расселением участников конференции будет заниматься Организационный комитет, делегаты начнут приезжать завтра, а сегодня никто знать ничего не знает и поселить их в гостинице невозможно. Лишь после длительных настойчивых уговоров откуда-то был извлечен список участников. Фамилию Инны вскоре удалось разыскать, его же — не оказалось. Правда, какой-то Степанов числился в списке, но с другими инициалами и из другого города. Инне выдали ключ от номера, а Триэс вынужден был довольствоваться удобствами вестибюля.
Буфет пока не работал, зато газетный киоск функционировал вовсю. Утреннее оживление становилось все более заметным. Даже муравьиная горка зашевелилась: ею оказалась пышная прическа сменяющейся администраторши.
Справившись у молодых людей, Триэс узнал, что представители Оргкомитета прибудут в гостиницу только часам к девяти. Он купил свежие газеты, но не мог сосредоточиться на чтении. Голова кружилась от голода, недосыпания и вчерашнего лазанья по горам. Какое-то неясное впечатление преследовало его. Точно сквозь уменьшительное стекло бинокля, он видел свое прошлое как ничтожно мелкую, неинтересную картинку, на которой к тому же почти ничего нельзя разобрать. Это было нечто вроде крошечной фотографии интерференционной картины, когда световые волны то гасят, то усиливают друг друга.
Чередование темных и светлых полос, существование как бы множества маленьких стихий в одной, всегда почему-то ассоциировалось у Сергея Сергеевича с самой общей картиной жизни и даже — как частный случай с его отношением к собственной профессии. Порой он любил ее самозабвенно, и тогда остальные радости меркли, отступали на второй план. То вдруг начинал внушать себе, что занялся не своим делом. Что это была не любовь, а временное увлечение. Тогда он проклинал свое лабораторное затворничество, желания его постепенно угасали, творческая потенция иссякала, все щедро отпущенное природой, казалось, было растрачено в пух и прах, оставалось только смириться с преждевременной старостью и перепоручить заботу о дальнейшем своем пребывании на земле милостивой судьбе и надежде, что она не заставит страдать его слишком долго. Он не рассчитывал найти понимание у окружающих, которые, наверное, не догадывались даже об истинном его возрасте. Впрочем, он и сам его толком не знал. Часто ему давали на вид меньше лет, чем ощущал его уставший, изношенный организм, иногда больше — и эти несоответствия, словно перепады температур, расшатывали усвоенные некогда представления о непрерывности пространства и однонаправленном течении времени.