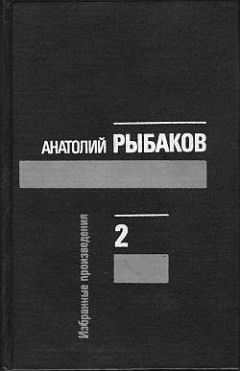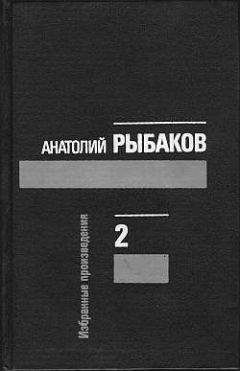— А, Лиля! — сказал Миронов, будто только сейчас ее увидя.
Он наклонился к чемодану, разбросал вещи, обрадовался, увидев маленький кожаный несессер на молнии, и протянул его в окно Лиле.
— Тебе!
Лиля посмотрела на Фаину и взяла несессер.
— Спасибо.
— Продолжим, — сказал Миронов, возвращаясь к столу. Но сел не рядом с Фаиной, а напротив.
На следующий день он пошел с отцом на кладбище.
Деревянный крест стоял на могиле матери, деревянный крест за ветхой деревянной оградой. Когда-то кладбище было возле деревни, и была здесь часовня, теперь деревни не было, снесли, и часовни не было, рухнула, наверно, а кладбище осталось, одинокое кладбище в степи, неогороженное, неохраняемое. Оно перекинуло могилы через дорогу, земли кругом было много, и синички вспархивали в кустах, как и тогда, когда он приходил сюда с Сашкой Харьковым.
Миронов укрепил холмик, убрал опавшие листья, подмел, полил и посадил поздние цветы.
Отец сидел на пенечке, кашлял и, точно извиняясь за свой кашель, говорил:
— Как глотну свежего воздуха, так и дохаю.
Миронов знал, что это за кашель — пневмосклероз, неизлечимая болезнь химика, на минуту пренебрегшего противогазом в особо вредном цеху.
— Проживешь в Москве-то? — спросил отец. — А то думал на пенсию выходить.
— Проживем, — ответил Миронов ласково.
До экзаменов оставалось полтора месяца. Миронов выходил из комнаты только в заводскую библиотеку.
Люди уходили на работу и приходили с работы утром, днем, вечером — завод работал круглые сутки. Отец приносил обед в судочке, Миронов ел и снова садился заниматься.
Прошло возбуждение первой встречи, только ребятишки не оставляли Миронова своим вниманием. По вечерам они садились у его окна. Перед Мироновым лежали тетради, исписанные химическими формулами. Заглядывая через окно, Лиля громко читала их, передразнивала голос школьной химички. Она была уже не такая тихая и робкая, как раньше и какой показалась Миронову в день его возвращения из армии. Она была бойкая девочка, заводила и вела себя с беспардонностью жительницы барака, где все живут на виду друг у друга и каждый терпит назойливость соседа потому, что сам вынужден быть назойливым.
На ней уже не было новых платьев, новых туфелек, новых носочков — все было старое, ношеное, как у других девочек. И все же она выделялась среди них — высокая для своих лет, стройная, с чистой кожей и правильными чертами лица, бойкая, насмешливая, воспитанная Фаиной и, может быть, знавшая больше, чем ей положено знать в свои тринадцать лет.
— Нравишься ты моей Лильке, — говорила Фаина, — глаз с тебя не сводит.
Миронов воспринимал интерес Лили к себе, как и интерес остальных детей, — интерес к новому человеку, тем более военному. Но он понимал, что внимание Лили особое — ответ на его внимание. А он выделял Лилю среди других детей из-за ее судьбы, из-за того, что стояло за ней, что волновало его, было предметом его долгих размышлений.
Знает ли Лиля, кто она такая? Помнит ли своего отца, свою мать, знает ли об их судьбе? Все в ее жизни с Фаиной казалось таким простым, ясным, будничным: живут, как все, как дочь с матерью, хоть и с матерью приемной; сейчас, после войны, их много — приемных матерей и дочерей. Может быть, и лучше, если она ничего не знает. И все же при мысли о том, что она ничего не знает, Миронову становилось грустно: неужели даже эта память об ее отце вычеркнута?
Иногда она пела. Все девочки в бараке пели, но Миронов узнавал ее голосок.
Вот солдаты идут по степи опаленной,
Тихо песню поют про березки и клены…
Грусть дрожала в ее голосе, и тогда ему казалось, что она все знает. Но потом она снова бегала с девочками, бегала и смеялась, заигрывала с Мироновым, по-детски кокетничала с ним.
Миронов жалел, что у него нет времени, которое он мог бы уделить этой девочке, ничего для нее не сделал, не оказал внимания, которого она ждала от него, инстинктивно чувствуя во всяком внимании к себе — защиту.
8
Раза два Миронов приезжал из Москвы на каникулы, но Лилю в бараке не встречал. Одно лето она была в пионерском лагере, другое — на Кавказе, ездила туда со старшей сестрой Верой, жившей в Москве.
— На Кавказе моя Лилька, — говорила Фаина.
В голосе ее слышались и гордость тем, что вот ее Лилька, единственная среди девочек барака, поехала на Кавказ, и тайная ревность, приподнимавшая завесу над сложными отношениями Фаины с Верой.
Эти известия Миронов принимал в ряду других новостей, сообщаемых ему жителями барака: хотели снять старого директора Богатырева, но не сняли, пустили девятнадцатый корпус, жена плотника Сысоева родила двойню, осенью в их бараке собираются перестилать полы, а зачем их перестилать, если обещают переселить в новые дома, и перестилать там нечего, все сгнило, тронешь — оно и рассыплется. Этими новостями здесь жили, жил ими и Миронов, приезжая сюда, — они на короткое время вытесняли то, чем жил он в Москве.
В пятидесятом году он окончил институт и вернулся в Сосняки. Он открыл дверь своей комнаты и вместо отца увидел девушку в синих спортивных шароварах. Положив ноги на стол, она читала. Она повернула голову на скрип отворенной двери и быстро сунула в пепельницу недокуренную папиросу. Пепельница стояла рядом, на другом стуле, старая их пепельница, фарфоровая обезьянка. Свет из низкого окна падал на тонкий дымок недопогашенной папиросы, оставляя голову девушки в тени, — может быть, поэтому Миронов сразу не узнал Лилю, а может быть, не узнал потому, что никак не думал встретить ее в комнате отца с ногами на столе, курящей папиросу.
— Здравствуйте, — Миронов поставил чемодан на пол.
— Здравствуйте.
— А где мой отец?
— Ах! — Лиля вскочила, растерянно посмотрела на Миронова. Совсем взрослая девушка, по-прежнему стройная и гибкая, особенно в шароварах и в футболке с закатанными рукавами, но какая-то сухая — «шкилет», как называли таких в бараке, с потрескавшимися и обветренными губами и несколько острыми чертами лица, на котором только иногда, когда она задумывалась, появлялась детская округлость. И глаза ее не были такие чисто-голубые, как раньше, а с сероватым оттенком, голубизна в них только искрилась. И это придавало ее лицу несколько затаенное выражение.
Миронов присел к столу.
— Где же отец?
— В больнице… А ключ нам оставил, — добавила Лиля, как бы оправдываясь в том, что сидит в чужой комнате.
— Что с ним?
— Уже все хорошо, завтра выпишется. А говорили, что вы в Москве останетесь.
— Передумал. Фаина здорова?
— Здорова. А военная форма вам больше идет.
— Думаешь?.. А зачем куришь?
— Балуюсь… А почему вы в Москве не остались?
— Пе-ре-ду-мал, — повторил Миронов, усмехаясь. — Выросла ты, сколько тебе?
— Семнадцать.
— Ну, рассказывай, что тут нового.
Она пожала плечами:
— Что тут может быть нового? Дымит завод.
— Дымит, говоришь? — рассеянно переспросил Миронов.
Она насмешливо повторила:
— Дымит, говорю. Что же вас в Москве не оставили?
— Не поняли меня в Москве.
— Не поняли… — повторила Лиля, — а Фаина говорила, что вы будете профессором.
— А ты что говорила?
— Я говорила, что никогда.
— Почему?
— Никогда, и все.
— Почему же?
— А где ваша жена? — спросила вдруг Лиля.
— Какая жена? — удивился Миронов. — У меня нет жены.
— Наверно… А с кем вы приезжали сюда?
— Ах, это…
— Вот именно.
— Видишь ли, — Миронов старался говорить убедительно потому, что говорил неправду, вернее, не всю правду, — приезжала студентка нашего института, институт наш химический, имени Менделеева, она интересовалась заводом, вот и приехала посмотреть.
— Ага, из окна гостиницы.
Миронова рассмешила эта барачная осведомленность, построенная на догадках, но всегда близкая к истине. Тут всё знают и обо всем говорят. Года два назад Лариса действительно приезжала с ним в Сосняки, но остановилась в городе, в гостинице. Из гостиницы она один раз приезжала сюда, на это могли не обратить внимания, мало ли кто приехал днем. А вот ведь знают, что приехала с ним из Москвы, что жила в гостинице, и приняли за жену. Это было не так, но близко к истине.
— Разве ты ее видела?
— Люди видели. В очках?
— В очках.
— Ну вот, — удовлетворенно проговорила Лиля, как человек, доказавший свою правоту.
Миронову стало грустно при мысли, что уже нет беленькой девочки, робко стоявшей в дверях барака с новой куклой в руках, и той, коловшей щепу, когда он вернулся из армии. Девушка как и другие девушки в бараке и, наверно, бездельница, курит, задрав ноги на стол, и расспрашивает и поддразнивает с любопытством, так свойственным женщинам барака.