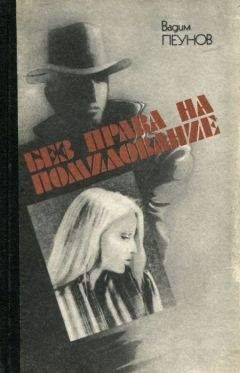— Милуют — от щедрости души, а вы, граждане представители советской милиции, хотите все спустить на тормозах совершенно по иной причине: у одного из преступников папа — майор милиции, у другого — знаменитый председатель колхоза, Герой Социалистического Труда... — жестко ответил Саня.
— Сотрясаем воздух хорошими словами, — нахмурился старший лейтенант. — Но от самых хороших намерений даже плохая трава не растет. Лишение свободы — только в книжках школа, а в жизни это не так. В компанию к убийцам и грабителям ему захотелось... — Старший лейтенант исчерпал свое терпение и сожалел, что так долго уговаривал упрямого парня. — Доучились! Кан-ди-да-ты... Не был бы ты сыном уважаемого человека... А майору каково, подумал? Спросят! Взыщут! А за что, спрашивается? На дурака что-то нашло, какая-то извилина в мозгах не по профилю легла. — Он покрутил пальцем возле виска.
В самом деле, Саня, видимо, до сих пор не думал об этой стороне дела.
С удивлением посмотрел на дежурного, на отца, потом метнул взгляд в сторону Славки Сирко, топтавшегося возле деревянной лавки, и снова сник.
— Прости, папка, — проговорил он угрюмо. — Но иначе я поступить не мог. И ты обязан с нами... по всей строгости закона.
Понимая, что Саня перевозбужден, Иван Иванович мягко ответил:
— Если бы ты был преступником, я бы подписал самый суровый приговор. Но таковым ни тебя, ни Славку не считаю, поэтому поступлю с вами, как поступил бы с любым в подобной ситуации. Составьте протокол, — обратился он к дежурному. — Проинформируйте прокуратуру. А копию — в институт. «О недостойном поведении аспиранта кафедры общей геологии Александра Ивановича Орача». Материалы на Станислава Сирко передайте на усмотрение военкомата, который, если сочтет нужным, направит их в военную прокуратуру.
Оба виновника подписали протокол не читая.
Иван Иванович вышел вместе с ними на улицу. Душу полосовала зеленая тоска. Было уже поздно. Тьме-тьмущей, казалось, не было и не будет конца-края. Ночь задавала свой ритм жизни далеким мерцающим звездам и всему сущему на земле. Только крохотные островочки света, ютившиеся под фонарями, были не подвластны могучей владычице.
Неподалеку от здания милиции, за высоким плотным забором находилась железнодорожная станция. Диспетчер на сортировочной горке ругал по громкоговорящей связи — по секрету всему свету — рохлю машиниста маневрового тепловоза, что-то напутавшего спросонья.
Прошла парочка. Парень обхватил девушку за талию, девчушка млела от удовольствия и льнула к спутнику. Влюбленным было наплевать на страсти-мордасти, кипевшие в душах четверых, стоявших у широкого крыльца райотдела милиции.
— Хочется, чтобы случившиеся послужило вам обоим уроком, — проговорил Иван Иванович, обращаясь к растерянному прапорщику Сирко.
— Дядя Ваня, разве это я? — взмолился тот. — Санька все затеял. Я, конечно, дурак, за нож схватился. Но это от обиды: при девчонках — по роже, и почти ни за что...
— Да есть, видимо, за что, — с горечью ответил Иван Иванович и показал сыну на «Волгу», стоявшую неподалеку на площадке. — Садись, — Когда Саня ушел, он спросил Славку: — Ты можешь мне толком объяснить, какая кошка пробежала между вами?
Тот пожал плечами.
— Ума не приложу... Вы бы знали, как я о нем скучаю в армии. И всем рассказываю, какой у меня друг — великим ученым будет. Да я за Саньку — кому угодно голову скручу. Он мне роднее жены и сына... Что на него нашло?..
Он недоумевал и был искренен в своем недоумении.
Не понимал по-прежнему причины распри друзей и Иван Иванович.
— Ну ладно, иди, — отпустил он Сирко. И выругался: — Дурачье! Мой совет: завтра с утра к военкому и, пока не передали протокол, кайся...
— Дядя Ваня, я же понимаю... Отправят депешу в часть — меня в два счета демобилизуют...
Совсем иначе был настроен Саня. Сначала Иван Иванович хотел сесть рядом с ним на заднее сидение, но почувствовал, что этого делать не стоит.
Ехали молча. Саня сидел затаившись. Порою Ивану Ивановичу казалось, что сын даже не дышит. Хотелось обернуться, но он сдерживал себя.
Наконец Саня заговорил:
— Ты... дома-то нашим... без подробностей, мол, подрались — и все. А то Марина разохается. Да и Аннушка слезу прольет.
Иван Иванович не без сарказма ответил:
— Само собою — никаких подробностей. Для женщин — не интересно. Это же не кинофильм «Гамлет» с участием Смоктуновского — всего-навсего двести шестая, часть третья, как ты сам уточнил. До семи лет... Марина, она знает, как скрипят тюремные ворота, так что ее не удивишь. Словом, обойдется без охов-вздохов. А вот Аннушку... Та на слезу слаба и вообще — придира, сделает из «шалости» кандидатика в ученые-геологи трагедию и, чего доброго, перейдет с валидола на нитроглицерин. Но это все — мелочи жизни. Суета сует... Главное, что мы про-де-мон-стри-ро-ва-ли! Только что? Кому? И во имя чего?
У Марины судьба трудная. По злой воле полицая Гришки Ходана она попала в Германию. Вернулась оттуда со жгучей тоской по Родине. Но вытравила жизнь на ней тавро: «была в оккупации»... В общем, Марина не сразу нашла свое место в новой, послевоенной жизни. Обиженная и поруганная, она пристала к тем, кто в ту трудную для нее пору был с ней ласков...
Юристы о таком случае говорят: «Устойчивая преступная группа». Марина перешивала краденое. Правда, не без влияния Ивана, она, в конце концов, восстала против такой судьбы...
Теперь Иван Иванович может себе признаться: в ту пору он любил разудалую красавицу Марину. Но удерживался от последнего, решающего шага. Чувствовал: Марина что-то скрывает от него. А может, главной причиной сдержанности была Аннушка, существо преданное и нежное?..
Ночь, тревожные раздумья, неизвестность, мучившая отца... Все это напоминало Ивану Ивановичу последнее «любовное» свидание с Мариной. Оно состоялось после суда, где молодой участковый выступал свидетелем.
Адвокат, защищавший Марину, говорил в своей речи о том, что Крохина была случайным человеком в «устойчивой группе». Задолго до разоблачения группы органами милиции Крохина порвала свои личные отношения с директором универмага Нильским, одним из руководителей банды, и сделала отчаянную попытку уйти из-под его влияния... Именно поэтому на нее и покушались... А все из-за Ивана, Нильский попытался прибрать к рукам мил-дружка Марины, она восстала. Тогда ее чуть было не зарезали: на всю жизнь осталась калекой, голова, можно сказать, «пришита» к правому плечу.
Адвокат умело доказывал, что судьба Марины Крохиной — это трагедия личности. И причиной тому — война. По просьбе того же адвоката Ивану разрешили минутное свидание с Мариной после суда.
Они стояли в дальнем углу комнаты, где находились и другие осужденные — женщины. Ивану казалось, что он слышит, как бьется сердце Марины. А может, это гулко стучало его собственное?
Марина повернулась к нему боком, — иначе она теперь смотреть перед собой не могла. Не смела пошевельнуться. Глаза у нее — карие, а в тот момент стали черными-черными. Это их подкрасила нарождающаяся слеза.
— Спасибо, что пришел... Боялась, отречешься.
— Почему отрекусь?... Ты-то от меня не отреклась, когда нож к горлу подставили.
— Я — баба, дура влюбленная. Ты — иное дело.
— А я — человек.
Постояла, повздыхала:
— Больше уже не свидимся.
— Пять лет — не вечность.
— Не вечность. Это верно. Но слыхал, как адвокат «смягчал» мою вину? «Благодаря мужеству Крохиной была раскрыта преступная группа Нильского». Вот за то мужество...
— Выбрось из головы! — потребовал он.
Она согласилась:
— Правильно, лучше о тебе. Женись на Аннушке. Любит она тебя. А я теперь калека. Да и клейменая...
Это было полной неожиданностью для Ивана. Растерялся, не знал, что ответить. А их уже поторапливают:
— Кончайте свидание.
Марина чмокнула его в щеку.
— Прощай, человек ты мой, человек.
Когда он вышел в коридор, Аннушка засыпала его вопросами:
— Ну что она? Ну как?..
— Сказала, чтоб на тебе женился.
Аннушка оторопела, не зная: верить — не верить...
— Марина... тебя любит.
— А ты?
Аннушка не смела глаз поднять. А он требовал:
— Посмотри на меня! И спроси: кого я люблю.
И она спросила.
Марина вернулась из заключения через три года. И всю свою добрую, отзывчивую душу, переполненную любовью, отдала Саньке, сыну Григория Ходана, который искалечил ей жизнь.
Иван Иванович попросил водителя остановиться за углом.
— Тут рядом, разомнем ноги.
Ему хотелось вызвать сына на откровенность. Когда машина ушла, он взял Саню под руку и повел к дому.
— Мне всегда казалось, что ты близок ко мне по духу, — начал он трудный разговор.
— И я верил, что ты по духу мне родной отец. Но сегодня ты не захотел меня понять. Бывает, видимо, у каждого день, мгновение... когда ты должен доказать себе... и всем, что ты за человек... И мне нужна была твоя вера, а ты, как милиционер, требовал вещественных доказательств. Но они у меня в душе. Как же я их тебе предъявлю?