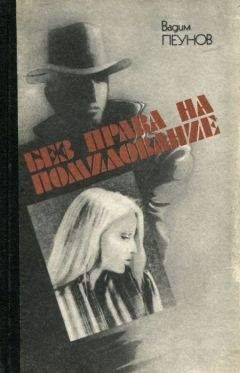— И я верил, что ты по духу мне родной отец. Но сегодня ты не захотел меня понять. Бывает, видимо, у каждого день, мгновение... когда ты должен доказать себе... и всем, что ты за человек... И мне нужна была твоя вера, а ты, как милиционер, требовал вещественных доказательств. Но они у меня в душе. Как же я их тебе предъявлю?
Что мог ответить Иван Иванович на такое обвинение? В самом деле, надо было поверить сыну и довериться ему. Но трудно верить на слово тому, на кого ты привык смотреть, как на ребенка. Все хочется поруководить, предостеречь, взять на себя его тяготы, его боли. Да не всегда это можно сделать. И не всегда это надо делать. Нельзя прожить жизнь за любимого сына, за любимую дочь. Какой бы мерой не измерялась твоя любовь, она никогда не заменит им собственного жизненного опыта.
Саня обижен. Но кем! Не Славкой же, безобидным, по-собачьи преданным Славкой...
— Сын, доверь мне свою обиду.
Саня медленно покачал головой.
— Папка... Не поверишь: нет у меня обиды, есть необходимость.
— Да в чем дело? — не выдержал пытки неизвестностью Иван Иванович.
— Ты сейчас меня все равно не поймешь. Нужных милиционеру доводов у меня нет. Вот года через три, через пять... жизнь их смастерит.
Что оставалось Ивану Ивановичу? Примириться.
Дома, конечно, ахали-охали. Аннушка даже всплакнула по поводу случившегося: «С ножом — на друга!» Разволновалась, сразу дало знать о себе сердце: впору вызывать «скорую». Марина, та — человек дела. Развязала руку, наспех замотанную платком, осмотрела рану.
— Пошевели пальцами! Двигаются! К хирургу! Немедленно! Противостолбнячный укол! — Отругала Ивана Ивановича: — Майор милиции называется! Ты же в этих делах дока! Почему не заехал в больницу?
— Опростоволосился. Замотался...
Саня начал возражать, мол, если до сих пор ничего не случилось, то доживет до самой смерти.
— Утро вечера мудренее.
Но Марина настойчива:
— Побасенки оставь девчонкам. В больницу!
Утром позвонил начальник Волновского райотдела подполковник Авдюшин, с которым они были в добрых отношениях еще со времен совместной службы. Под началом старшего лейтенанта Авдюшина младший лейтенант Орач начинал службу в розыске.
— Иван Иванович, — начал Авдюшин, не сказав даже «доброе утро». — Что за игра в поддавки! Дежурный показал мне протокол вчерашнего задержания, рассказал о выбрыке вашего Саньки. Удивляюсь: серьезный, ученый, и такое! Ничего мы писать в институт не будем. А шарады разгадывайте сами.
Где-то на самом дне души родилась крохотная радость: «Может, и к лучшему...»
Но тут же Иван Иванович вспомнил вчерашний разговор с Саней: «Мне нужна была твоя вера, а ты... требовал вещественных доказательств... Их у меня нет. Вот года через три... жизнь смастерит». И еще: «Нет у меня обиды, есть необходимость».
Какая? Потребность, чтобы протокол о случае с поножовщиной был передан в прокуратуру для возбуждения уголовного дела? Но чем такая необходимость может быть вызвана?!
— Все-таки напишите, Владимир Александрович, — попросил майор Орач. — Я еще не разобрался, но Саня упорно настаивает... Нынешние, они с повышенным чувством собственного достоинства. Ситуация такова, что нетрудно ошибиться. Доверимся нашим детям. Им уже под тридцать. Нам и в семнадцать доверяли: вот тебе винтовка, тридцать патронов, две гранаты — защищай Родину.
— Что это тебя, Иван Иванович, потянуло на патетику? — воскликнул Авдюшин, — И вообще: я тебе — про Фому, а ты мне — про Ерему... «Тридцать патронов! Две гранаты!» Да этот дурацкий случай может стоить Саньке всей карьеры ученого! Меня удивляет твоя позиция нейтрала. Если бы похожее случилось не с твоим сыном, с посторонним, ручаюсь — ты бы всю область перепахал, а до истины добрался. В чем подлинная причина драки? Почему Сане надо довести дело до трагического конца: сообщить о его антиобщественном поступке на кафедру?
«Взрослые дети...» — невольно подумалось Ивану Ивановичу.
— Да, да, конечно, — согласился он, — я попробую выяснить... Но все-таки напишите. Обоим. Пока это единственный реалистический ход.
— С Сирко — проще: передали дело в военкомат, а оттуда пошлют в комендатуру. У него еще двадцать дней отпуска, отсидит на гауптвахте... Не знаю, на каком он счету в части, но и там, узнав обо всем, по головке не погладят, — пояснил начальник райотдела. — И все-таки «главным пострадавшим» в этой ситуации окажется Санька. Не забывай, Иван Иванович, что в решении его судьбы когда-то и я принимал участие.
(Авдюшин помогал Орачу оформлять документы на усыновление Адольфа Ходана).
Письмо, конечно же, попадет к академику Генералову, и завкафедрой будет решать судьбу своего любимого ученика...
А тут еще эта грязненькая история с женой академика. Ее могло не быть — если бы не служебное рвение майора милиции Орача. Но тогда осталось бы нераскрытым ограбление мебельного, гуляли бы на свободе Пряников, Тюльпанова, Гриб... Впрочем, был выход; как только всплыла фамилия Капитолины Генераловой, супруги любимого учителя Сани, можно было передать дело кому-то другому...
А другой что, был бы менее объективен? Просто Иван Иванович в глазах академика Генералова выглядел бы чистеньким (моя хата с краю, я ничего не знаю). Удобная позиция... для дезертира.
«Позвонить Викентию Титовичу...» — мелькнула угодливая мыслишка. Но Иван Иванович тут же отбросил ее. Академик Генералов ни разу не обратился к майору Орачу с просьбой вывести жену из дела. Человек с достоинством!
Иван Иванович тоже никогда и нигде не хлопотал за сына, если не считать случая при поступлении в институт. Да и там старался Строкун.
...У несовершеннолетнего выпускника средней школы Александра Орача не приняли документы: «Институт — не детский сад!» И тогда Строкун привел необычного абитуриента к академику Генералову: «Смотрят не на знания, а на года...» И Саня покорил грозного академика своей влюбленностью в геологию...
В тот же день у Ивана Ивановича состоялся разговор со Строкуном. Евгений Павлович уже знал обо всем со слов начальника Волновского райотдела.
— Объясни толком! — потребовал Строкун. — Или я за тридцать лет работы в милиции до того постарел, что совсем не добираю... Что там к чему?
А Ивану Ивановичу и ответить нечего.
— Все мои попытки установить с сыном душевные контакты ни к чему не привели.
— И он по этому поводу еще иронизирует! — возмутился Строкун. — Если у тебя не хватает отцовской власти, я применю свою: на правах друга и крестного отца...
Когда Евгений Павлович разговаривал с Саней — для Ивана Ивановича осталось загадкой. Но уже на следующий день полковник милиции Строкун вынужден был признать свое поражение.
— Понимаешь, Иван, я почувствовал себя каким-то... несовершеннолетним. Не знаем мы наших детей, приставляем к ним свои аршины. А они на целое поколение моложе нас, у них свои мерки, свой спрос — и с нас, и с себя... В ответ на все мои возмущения твой Санька отвечает: «Ну, просто какая-то эпидемия среди «предков», — все убеждены, что молодежь губит дело их жизни. Но у каждого поколения — свое дело всей жизни. У одних — борьба с разрухой, у других — целина, у третьих — освоение космоса... Или доверяйте нам до конца, или признайтесь сами себе, что вы нас ничему не научили, в таком случае вся ваша жизнь — пустышка». Вот так-то... Доверяйте! А доверять, в моем представлении, — это проверять и вовремя подсказывать. Но взрослые дети — сами с усами...
Письмо райотдела попало к академику Генералову.
Вызвал тот опального аспиранта и, держа двумя пальчиками за краешек письмо, отпечатанное на бланке, спросил:
— Уважаемый коллега, как мы с вами классифицируем эт-тот документ?
А молодой ученый Александр Орач отвечает:
— Викентий Титович, неужели вы ни разу ни с кем за свои убеждения не схлестнулись?
— Н-да... — пробормотал тот, пораженный неожиданно дерзким ответом своего ученика. — Но за нож я при этом не хватался. Я всегда верил, что самый сильный аргумент — знания, а самое острое оружие — слово.
— И я за нож не брался. Лишь перехватил его, поймав за лезвие.
Профессор Генералов глянул на перебинтованную руку аспиранта и хмыкнул:
— Н-да... — Затем доверительно спросил: — Выходит, драка была по делу?
— По делу.
— Не... из-за дамы сердца?
— Нет. Из-за судьбы человека.
— Не приемлю петушиных боев и схватки самцов из породы гомо сапиенс. Не сожалеешь?
— Нет!
— Выходит, по убеждению... Ну что ж... В любом случае, снявши голову, по волосам не плачут. А другая народная мудрость гласит: делу — время, потехе — час. Потешился добрый молодец, пора и за работу. На носу защита, оппоненты у нас с вами, кол-ле-га, весьма воинственные, а судьба байкальского разлома — дело крайне проблематичное.