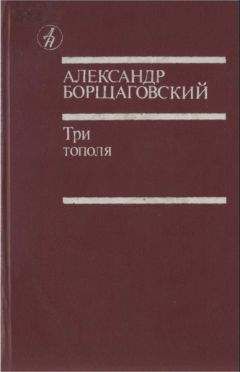— Нет! — быстро откликнулся Алексей и позвал: — Катя! Иван Сергеевич проститься пришел.
Первой отозвалась не Катя, Александра. Они шли в обнимку, и в том, как рослая Саша, приобняв Катю в поясе, притиснула ее к себе, было что-то горько-покровительственное, прощальное и прощающее.
— Иван Сергеевич! Иван Сергеевич! — повторила Саша слова Алексея. — Не успели свидеться — прощаемся… Нет! Нет! — воскликнула она, видя, как церемонно протянули друг другу руки Иван и Катя. — Ты его поцелуй, Катерина, не чинись… По-людски прощайтесь, больше не свидитесь.
— Что ты?! — всполошилась Цыганка. — Они еще приедут.
— Не приедут, тетя Катя! — Пророческая уверенность прозвучала в ее словах. — Я хоть и простая, дуреха, по-другому сказать, а знаю: не приедут… Да поцелуйтесь вы! — подтолкнула она Катю к Ивану, зачем-то ей нужен был этот обряд. — Мне Алешу целовать нельзя, видите, неспокойный стоит… Бедненький, злой, губы об него поранишь… — Она понуждала себя улыбнуться, но не могла прогнать своего страдания и предчувствия той пустоты, той обделенности, которую так убежденно предрекала и себе и Капустину. — Жить надо, Алеша, — повторила она сказанное совсем недавно над Воронком, — надо, надо, не тому ли и ты нас учил?.. А сюда не езди, богом прошу тебя… Была печаль — чего тебе ездить?
Она приникла к Цыганке, будто прощалась с ней, будто и не Алеша с женой уедут на рассвете, а тетя Катя, которая всегда так хорошо понимала ее.
«ПЕРВАЯ КРАСОТА — ЧЕЛОВЕК»
Самому давнему произведению из этого тома — рассказу «Ночью» — уже двадцать лет. Когда в последний раз я дочитал его и обратил внимание на дату написания, как-то сами собой вспыхнули вопросы: каким вырос Степка Ермаков? удалось ли ему воспринять духовные уроки и рабочую стать старого плотника Серафима, преодолеть чувство своей обделенности и обиды за мать, перенять от нее чувство родства с людьми, с миром? как прожили свою жизнь Люба Ермакова и киномеханик Николай? что сделалось с лесной, заброшенной деревушкой Бабино — «горсткой изб у кромки уходящих в глубь России лесов», жива ли она? Тут же я ощутил неуместность, странность этих вопросов: не очерк ведь передо мной, в котором описаны реальное поселение и реальные люди, а рассказ — и деревушка, и ее обитатели, и их отношения меж собой и с жителями расположенного на противоположном берегу Оки села Кожухово, и все события рассказа есть создания писательского вымысла, воображения, жизнь, дарованная им писателем, вся заключена в тридцатистраничных рамках рассказа, дальнейшего ходу ей нет. Все это я понимаю, а вот поди ж ты — не отступают, не уходят эти вопросы, как не уходят из твоей жизни эти люди: Люба, ее обеспамятевшая мать, кожуховский Николай, его молодая жена Катя, ее отец, «крупный темнолицый мужик, который никогда не держался одного определенного дела, а жил, не в пример другим, в ровном достатке», немногочисленные бабинские жители, которые и сказались-то в рассказе несколькими солеными репликами, прозвучавшими в клубе перед началом киносеанса.
Как, чем достигает Александр Борщаговский этого, порой пронзительного, жизнеподобия своих персонажей, этой взаправдашности, всамделишности той реальности, которая разворачивается перед читателем в его рассказах? Ведь бывает — редко, но бывает, — что иная сюжетная извилина, иное душевное движение персонажа в каком-либо рассказе или повести покажутся немотивированными, не совсем оправданными, слишком жестко «спланированными» автором — и некоторое время это впечатление висит над тобой, сбивает внимание, мешает воспринимать страницу-другую; но ландшафт, вкус, запах, звучание жизни, встающие и струящиеся с тех же самых страниц, которые ты вроде бы воспринимал не столь внимательно, и удивительно похожие на те, что знакомы тебе по твоему собственному жизненному опыту, вновь забирают тебя в плен, сглаживают и убирают зазор, возникший между тобой и рассказчиком, и ты не то чтобы сбрасываешь со счетов твои претензии, а даже себе самому начинаешь возражать и внушать, что и так. как описано у автора, вполне могло быть и вершиться, что, в конце концов, автору, так знающему и так воспроизводящему действительность и людей, виднее, и он в своем праве неожиданно, нестандартно повернуть сюжет или позволить своему персонажу неожиданные вроде бы поступок или высказывание.
Тому, конечно, не одна причина и не одно объяснение. И достигает жизнеподобия Борщаговский не каким-то единственным, раз найденным приемом. Да и вообще, может быть, не в приемах дело, хотя Борщаговский из тех писателей, что «знают ремесло» и пишут не по наитию. Я же с самого начала хочу сказать об одном, видимо, человеческом качестве Борщаговского, без которого все приемы и методы воссоздания человека в слове действовали бы вполсилы или в четверть силы.
Это качество — память слуха. Он сам сказал однажды: «…жизнь и звуки ее речи памятны мне навсегда». Это было сказано о давней, детской поре, прожитой в украинском селе, но я, читатель, понимаю, что относятся эти слова не только к ней, а и к жизни современного рязанского села, к жизни современного большого города. И хотя Борщаговский умеет описать человека: и лицо его, и одежду, и фигуру, и повадки, — но виднее всего этот человек становится мне, когда он зазвучит, заговорит. Если даже не описан, а только звучит — уже виден весь. В рассказе «Ноев ковчег» среди многих его персонажей всего на странице с небольшим возникает «крохотная» бабка с корзиной маслят, возникает, ввязавшись в разговор с майором из военно-охотничьей инспекции.
«— Всякую ночь рыбу берут, ми-илый, — ласково доносила бабка, побаиваясь мужиков и все же не в силах сдержать пагубной своей склонности: смирения и верности закону. — Нынче щука пойти обязана, теплой ночью она крепче спит, спугнешь ее бота-лом, она и твоя, в ячеё. (…) И шелешпера нынче хорошо брать, верняк, ветра, видишь, нет, а он безветрие любит, балованный он…
— Ты, бабка, профессор по браконьерству, — сказал майор. — Может, и сама промышляла?
— Было! — гордо сказала она. — Как не быть — было. Мой старик первым в этом деле числился. Жаль, не застал ты его. — Она горестно вздохнула. — У нас до тебя тоже инспектор шнырил, злой был, пес, за моим охотился и на моторке, и на веслах, и только что не вплавь… Нырял даже под его, а все — ничего! Мой у него меж пальцев ходил, а в крайности утопит сеть и — концы, а через денек крючкём зацепит, и обратно наша! — Бабка даже посветлела лицом. — Мой и помер-то от реки. На леща позарился уж в самый лед, под мороза, искупался ненароком и в три дни стаял… — Грустные события вернули ее на грешную землю. Все это было в прошлом, но хмурые лица мужиков и пристальность жгучих глаз майора обеспокоили бабку. — Сегодня и мой старик против закона не пошел бы, — сказала она просветленно, — а в те лета нужда гнала. Хлебушка и то купить не на что было, и табаку даром не дают».
И конструкция фразы, и сочные ударения, и местные словоупотребления создают такой речевой сплав, который точно отражает и вырисовывает сплав характера: гордыня и достоинство вкупе со смиренностью и трезвейшим пониманием реальности, в которой жила и живет эта старуха. Она могла бы в свою очередь встать в центр какого-либо рассказа, и тогда мы намного больше узнали бы о ее биографии, о хитросплетениях этой жизни, в которую многообразными — и драматическими, и радостными — событиями вошли и первая германская, и революция, и гражданская война, и коллективизация, и первое колхозное десятилетие, и Великая Отечественная, и последующие годы, но знание ее характера у нас осталось бы в основном то же. Так ясно и выпукло он определился в недолгом разговоре.
И сколько подобных примеров можно было бы извлечь из рассказов, повестей и романов Борщаговского, вошедших и не вошедших в этот том. И однорукий конюх дядя Егор из рассказа «Три тополя на Шаболовке», и тоже конюх Петр Михайлович из рассказа «Где-то я тебя, парень, видел», и старая коммунарка-колхозница Паша Лебедева из повести «Была печаль», и Константин Афанасьевич Братенков из повести «Суховей», и старый рабочий Демид Коваль из романа «Млечный путь»… Да ведь и некоторых основных персонажей произведений Борщаговского мы прежде и крепче всего узнаем по сказанному ими, по тому, что и как ими произнесено, — и последующие их действия и поступки лишь дополняют и поддерживают это знание.
Сразу оговорюсь: не думал и не думаю, что Борщаговский всего-навсего лишь твердо запоминает (или заносит в записную книжку) услышанные речения — отдельные фразы, монологи и диалоги — встреченных им в реальной жизни людей и по мере надобности точнехонько воспроизводит их на той или иной странице. Это ведь и невозможно. Как жизнь весьма редко создает в очищенном, рафинированном виде, без ненужных и пустяковых примесей значащий и символичный эпизод, который сам по себе мог бы стать явлением искусства, так и любой человек не так уж часто произносит нечто, в чем и лексически, и синтаксически, и психологически высказывается его характер, его отношение к миру и к людям.