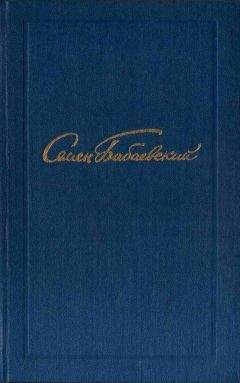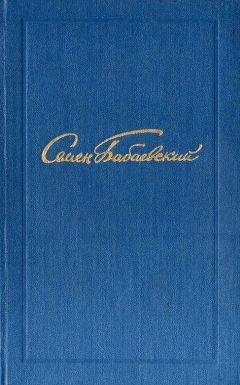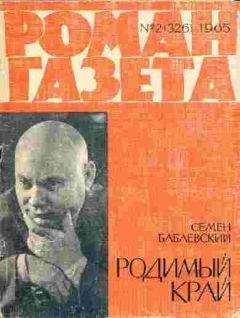Он сел за стол, снова раскрыл тетрадь, поближе пододвинул лампу и начал писать.
«Тася не знает: с нами может случиться то, что частенько случается на Кубани во время половодья. Покачивается на стремнине какая-нибудь коряга, несется что есть мочи, и кажется, что так она, поворачиваясь на воде и вскидывая свои коренья-руки, промарширует до самого моря, и там морская волна легко подхватит ее и унесет неведомо куда. И вдруг какая-то странная сила потянет корягу со стремнины, поведет в сторону, и вот она, замедляя свой бег, уже прибилась к берегу, отыскала себе место поудобнее, остановилась и уже навсегда. Так остановимся, придет время, и мы, и остановимся обязательно. Плохо, что я еще не уверен, есть ли во мне хоть какой-нибудь талантишко, или, может быть, привязалась ко мне та неизлечимая хворь, каковая именуется графоманией. Но одно для меня теперь уже ясно и очевидно: без газеты не прожить. И так же, как корягу что-то выталкивает со стремнины и подгоняет к берегу, так и во мне сидит та сила, которая непременно приведет меня в газету. И если я, как говорит Тася, не ужился в Рогачевской, то это еще не значит, что по характеру я вообще неуживчив и что везде редакторы такие сухари, как в Рогачевской»…
Тася давно перестала шмыгать, притихла, и Степан понял, что она уснула. Теперь он взял три конверта и три листа бумаги и написал своим крупным, разборчивым почерком сразу в три газеты: в «Усть-Калитвинскую правду», в красногорский «Рассвет» и в старореченскую «Зарю коммуны». Утром, пораньше, отнес письма на почту и оттуда пошел в мастерские. Оставалось спокойно работать и ждать ответа, и если из какого-то района ответ придет положительный, Степан не задумываясь возьмет свою беременную плаксивую женушку и уедет, и удержать его в Холмогорской уже никто не сможет.
Дни шли, Степан работал хорошо, и Остаповский был им доволен. Как-то в субботу братья вместе возвращались домой, и Максим сказал:
— Сегодня видел Остаповского. Не нарадуется тобой. Вот теперь, говорит, толк из Степана получится. Ты что это так неожиданно изменился к лучшему?
— Не изменился, а просто стал старательным и послушным.
— Это хорошо, — одобрил Максим. — Всякая работа требует старания. Старание — это главное.
А на другой день, в воскресенье, когда Настенька и Тася отправились в центр станицы, в магазины, а Степан сидел за столом и писал, Максим приоткрыл дверь и спросил:
— Братуха, к тебе можно? Не помешаю?
— Входи, входи, — ответил Степан.
— Удивляешь меня, Степан. Хоть бы по праздникам отдыхал.
— Работа не подневольная, от нее не устаешь. Не веришь? В Рогачевской, бывало, весь день в редакции, чертовски устанешь, домой приходишь с головной болью. Умываюсь, сажусь писать — и, веришь, усталость как рукой снимает. Улыбаешься? Нет, тебе этого не понять!
Свежевыбритый, в отличном настроении, Максим развалился на диване, точно бы желая показать, что скоро уходить не собирается.
— Что сочиняешь, Степа? — спросил он. — Или это секрет?
— Никакого секрета. Пишу повесть.
— О чем же она, эта повесть?
— Как бы сказать? О несчастной любви.
— Странно. Почему о несчастной? Почему не о счастливой?
— Хочу описать женщину, судьба которой чем-то похожа на судьбу Клавы.
— Жизнь у Клавы была горькая и страшная, — сказал Максим. — Но я не понимаю, отчего писатели стараются писать о несчастье людей, а не об ихнем счастье? Вот и ты, только еще собираешься стать писателем, а о чем пишешь? Сколько у нас в станице счастливых женщин, а ты выбрал для примера Клаву.
— Ответ на твои вопросы, очевидно, следует искать в истории русской литературы. Что лежит в основе выдающихся романов? Горе и страдания людей. — Степан посмотрел на своего брата повеселевшими, улыбающимися глазами. — Где-то я читал, что в «Тихом Доне», по меткому выражению одного шолоховеда, «горе выплеснулось из берегов Дона» и что в романе, по подсчету того же старательного исследователя, подробнейшим образом описано более двухсот смертей.
— Что же станут делать писатели при коммунизме, когда в жизни людей не будет ни горя, ни страдания? — с иронической улыбкой спросил Максим.
— Вот чего не знаю, того не знаю, — чистосердечно признался Степан. — Думаю, что если такое время когда-то и наступит, то это случится очень и очень нескоро.
— Но ведь и сейчас есть у людей настоящая радость и настоящее счастье? — стоял на своем Максим. — Есть и у нас в станице семьи, где муж и жена любят друг друга глубоко и искренне. Почему бы тебе не написать повесть именно о такой любви? Для примера мог бы взять ну хотя бы Марфеньку и Петра Андроновых. Ничего не надо придумывать, бери и описывай все, как есть. У них трое ребятишек, ждут четвертого. Живут в любви и согласии, материально ни в чем не нуждаются, муж и жена труженики, каких поискать! Или возьми моего соседа, Петра Никитина. Отличный семьянин. А какой настырный в работе!
— Тогда лучше всего написать повесть о Максиме Беглове? — все с той же иронической улыбкой спросил Степан. — Твоя жизнь не похожа на деревенскую, да и стоит она в станице каким-то особняком.
— Нет, Степан, для повести я не гожусь.
— Отчего не годишься? Думаешь, что если написать о тебе сущую правду, то читатели не поверят? — смеясь, спросил Степан. — Скажут: досужая выдумка, ибо в реальной жизни таких ненормальных пока еще нету. Так, что ли?
— Могут сказать и это, — согласился Максим. — И еще скажут: лакировка!
— Максим, а горе у тебя бывает? — спросил Степан.
— Страшного горя, такого, чтоб доводило до слез, еще не было. А мелкие неприятности имеются, — ответил Максим. — У кого их не бывает? Меня тоже навещают и тяжкие думы, и ночи без сна. Ты видел, как я реставрирую изношенные, от старых тракторных моторов, клапана? Раньше их выбрасывали в металлолом, а теперь мы их ставим в моторы легковых машин, считай, как новенькие, словно бы только что с завода, и делать их такими новенькими умею только я один. И если бы ты знал, сколько мне стоило нервотрепки, чтобы на деле доказать свою правоту!
— Новые клапаны — это, я понимаю, дело важное и нужное, — сказал Степан. — Но мне интересно было наблюдать сам процесс обработки, то, как из-под резца сочилась дымящаяся стружка. Казалось, что эта стальная стружка сочилась, как упругая струйка воды. Как считаешь, Максим, похожа она на струйку воды?
— Похожа самую малость. — Максим подошел к брату, положил свою тяжелую руку ему на плечо, наклонился. — Степа, почитал бы что-нибудь. А? Очень прошу.
— Читать-то еще нечего, — ответил Степан, чувствуя на плече жесткую, как железо, руку брата. — Написано много, да только все это пока еще черновики.
— Прочитай хоть начало.
— И начало еще не годится, — ответил Степан и подумал: «Непременно надо записать: рука на плече, мускулистая, упругая, тяжелая, — рука токаря». — После смерти Клавы всю повесть я решил переписать заново.
— Что так? — удивился Максим.
— Я был на похоронах. Утонув в цветах, из гроба выглядывало крохотное, будто слепленное из глины, личико. Я так много думал о несчастной судьбе этой женщины, что все написанное мною необходимо переделать, и начало тоже… Смерть Клавы все во мне перевернула.
— Трудноватая у тебя работенка, не позавидуешь. — Максим снова уселся на диван. — Скажи, Степан, разве нельзя все это бросить?
— И ты о том же? Недавно я убеждал Тасю, что нельзя бросить то, без чего невозможно жить… Не будем об этом.
Желая переменить разговор, Максим спросил:
— Как это ты стружкой испугал Остаповского?
— Жаловался?
— Пожимал плечами и разводил руками, — ответил Максим. — Остаповский считал тебя придурковатым, не в своем уме. Но сейчас изменил свое мнение. И вчера уверял меня, что в слесарном деле ты весьма преуспеваешь и что из тебя получится настоящий мастер-ремонтник.
Предположениям Остаповского не суждено было сбыться. Через неделю случилось совсем непредвиденное: из Усть-Калитвинской в Холмогорскую прикатила полуторка и остановилась возле дома Максима Беглова. Из кабины вышел коренастый мужчина в щеголеватых сапогах и в галифе, в дубленом полушубке и в кубанке серого курпея. Он назвался работником Усть-Калитвинского райисполкома Новожилиным и сказал, что приехал с письмом редактора «Усть-Калитвинской правды». В письме, которое Новожилин передал Степану, редактор просил приехать с семьей на машине, обещая не только работу, а и готовую для жилья квартиру.
Начались спешные сборы в дорогу. Проводить Степана и Тасю пришла Анна Саввична и, обнимая сына и невестку, всплакнула в кулак (Василий Максимович, как всегда, был в поле). У двора собрались поглазеть соседи, и Степан, складывая в кузов полуторки свои неказистые пожитки, слышал реплики: