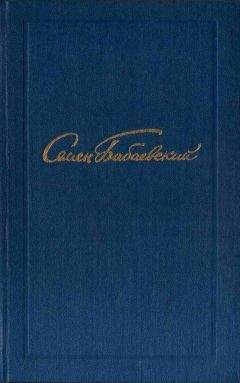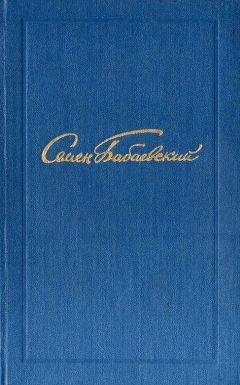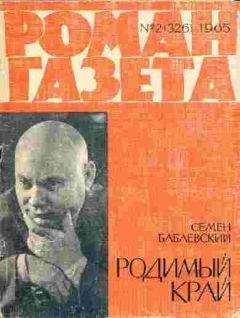Нежданную гостью Елизавета встретила неприветливо, с чувством настороженности, она не понимала, да и не могла понять, что могло привести к ней эту старую женщину. Не показывая, что она удивлена, Елизавета пригласила гостью войти в хату, предложила стул, сама присела у стола, скрестив на груди белые, открытые до плеч, с округлыми локтями руки. И как только Фекла Лукинична, платочком вытирая слезы, заговорила о Никите, Елизавета насторожилась еще больше и, не давая ей досказать, спросила:
— Фекла Лукинична, вы так говорите, будто я ничего не знаю? А я все знаю. Но не понимаю, при чем тут я и чего вы от меня хотите?
— Сочувствия моему горю хочу, — заплакав, сказала Фекла Лукинична. — Лизонька, подсоби ему встать на ноги. Ведь он по дурости своей свалился, а теперь сам, своими силами, подняться не может, — Она подержала платок у глаз, тяжело вздохнула. — А лучше сказать: он не упал, а душой сломался, напополам, как ломается в бурю дерево. Упадет, наклонится к земле, а подняться, выпрямиться у него нету мочи. Но дерево поднимают люди, выпрямляют, перевязывают, сломанное место со временем срастается. У нас было такое. Лет десять назад в грозу буря сломала молоденькую вишню. Так я сама подняла ее, перелом стянула бинтом, поставила подпорки, и вишня до сих пор живет и плоды приносит… Вот если бы и Никита…
— Деревцо было молоденькое. А Никита?
— И Никита может вернуться к жизни, может, молодой же еще. Ему бы только подсобить.
— Что же я могу сделать?
— Женщина, ежели пожелает, все может… И ты можешь, Лизонька. Ему радость нужна. Вот, к примеру, мой муж, Андрей Саввич, отчего выздоровел? От радости! Хоть невестка, жена Ивана, и уверяет, что Саввич поправился от какого-то дорогого лекарства, какое она раздобыла, а я не верю… Радость — она все лечит! Вот бы и Никите надо бы возрадоваться и позабыть бы горе…
— Но как этого добиться?
— Лизонька, милая, ты же когда-то любила Никиту?
— О том вспоминать теперь нечего…
— Только ты, Лизонька, и смогла бы вселить в него радость, — свое твердила мать. — Выдворить бы из него тоску-кручину, изничтожить бы ее, гадюку!
— Как выдворить? Как уничтожить? И как вселить в него радость? Это легко сказать…
— Поговорила бы ты с ним, Лизонька… Нашла бы такие слова… А то он каждый вечер ходит на кладбище и просиживает там до полуночи. Беда! А днем слоняется по станице. Я с ним говорила, да только слова мои до него не доходят, глухой он к ним… А к тебе прислушается, тебя поймет… Подсоби, Лизонька, моему горю, вызволи Никиту из беды, подними сломанное дерево, пока оно совсем не засохло…
Лиза ничего не обещала матери Никиты. Но на другой день перед вечером, возвращаясь с работы, отправилась не домой, а на кладбище. Никиту увидела издали. Он сидел, согнувшись, и в уже загустевшей темноте был похож на пень. Лиза неслышно подошла к нему и положила руку на его плечо. Он вздрогнул, но голову не поднял. Лиза наклонилась к нему и сказала:
— Никита, а я пришла за тобой.
— Кому я понадобился?
— Мне, кому же еще? — Она спросила так уверенно, будто Никита знал об этом и ни о чем другом и подумать не смел. — Уже стемнело, вставай, пора домой!
— Нету дома у меня… Был, а теперь нету.
— А я приглашаю тебя в гости, в свою хату… Ну, пойдем!
Она никак не ожидала, что Никита так послушно поднимется и, точно бы давно ждал ее, так привычно, с заметным оживлением в глазах, посмотрит на нее.
— Поклонись Клаве, — сказала Лиза. — Попрощайся, и пойдем.
И снова Никита подчинился беспрекословно: поклонился могилке и быстро отошел. От кладбища до самой хаты они шли молча. Лиза понимала, что Никите сейчас не до разговоров, и ни о чем его не спрашивала. Они вошли в хату, зажгли свет в небольшой комнате-кухоньке с газовой плитой и обеденным столом, и тут Лиза сказала ласковым голосом гостеприимной хозяйки, и сказала так просто, словно бы они давно условились встретиться именно у нее дома:
— Ну вот, Никита Андреевич, теперь ты мой гость и подчиняйся мне во всем. Снимай свою одежонку. Сейчас мы будем ужинать. Яичницу-глазунью с колбасой любишь?
— Не откажусь.
— Вот и хорошо. А к чаю у меня есть сливочное масло и сыр, — говорила она так обыденно и просто, будто Никита бывал тут каждый вечер. — Отличный сыр! Производство Холмогорского завода, дело, так сказать, моих рук. Ручаюсь, такого вкусного ты никогда не ел, этот сорт идет на экспорт.
— Что ж, попробую и сыру.
Никита снял свое пальтишко, и только теперь, при ярком свете, заметил, каким оно было старым и грязным. Тут же поспешил оправить пиджак, тоже изрядно заношенный, с короткими, смятыми и потертыми рукавами.
— Лиза, а где можно помыть руки?
— Проходи сюда, это умывальник и ванная. Только вместо настоящей ванны стоит деревянное корыто. Но при желании в нем можно искупаться.
Вытирая полотенцем руки, Никита посмотрел не только на неглубокое корыто, но и на потолок. Увидев там ржавые, засохшие следы от воды, он озабоченно, по-хозяйски, спросил:
— Крыша не в порядке? Потеки, как засохшие слезы.
— Польет дождь — беда!
— Черепица прохудилась?
— Шифер пропускает воду, уже старый. Я купила пятьдесят плиток, просила прислать мастера, а он все не приходит… Ну, я сейчас займусь глазуньей, — сказала она, повязывая коротенький фартук. — Глазунья будет готова в один миг, а ты проходи в большую комнату и зажги там свет. Можешь включить телевизор, чтобы не было скучно.
После ужина настроение у Никиты заметно улучшилось. Он взял сигарету, спички и собрался выйти покурить. Лиза сказала, что ему, как гостю, она разрешает курить в хате.
— Тут дымить не годится. В хате у тебя чистенько, зачем же портить воздух?
— Вот, Никита, какой ты культурный да понимающий, — сказала Лиза, когда Никита покурил на дворе и вернулся в хату. — А с виду поглядишь на тебя — мужик мужиком, да к тому же и живешь как-то непонятно, не по-людски. Я думала, что такая твоя бесприютная житуха загрязнила не только твою одежонку, а и твою душу. Нет, душа у тебя еще чистая. Но то, что ты давно не мылся, что своей внешностью на бродягу похож, вот с этим тебе надо кончать. Зараз искупайся, а твою рубашку я постираю. За ночь высохнет, к утру и поглажу.
— Елизавета, это ни к чему.
— Ты же грязный, как урка.
— Обойдусь… Ничего не надо.
— Надо! Если тебе говорят — надо, то, стало быть, надо.
— Не буду мыться.
— А я говорю — будешь. На плите, видишь, уже стоят, греются два ведра воды. Хватит искупаться? Или мало?
— Ни за что не буду.
— Чего испугался? Видел корыто? Вот в нем и искупаешься. Ну, чего стоишь? Раздевайся, вода уже согрелась.
— Что выдумала? Стыдно же…
— Какой стыдливый, как барышня.
— Это что же, голяком?
— А что? На пляже все голые и не стыдятся. Да и нечего тревожиться, твой стыд останется при тебе… Давай, давай, снимай рубашку, да смелее! Сперва помоешь голову. Не сумеешь сам — помогу. И спину потру мочалкой… Ну?
— Пойми, Елизавета, нехорошо мне при тебе оголяться. — Впервые за многие месяцы Никита засмеялся, правда, несмело и невесело, как бы еще сам себе не веря, что умеет смеяться. — Это же получится цирк!
— Никакого цирка не будет. Я отвернусь и закрою глаза. Ну, действуй!
— Знать, я голышом должен забраться в корыто, а ты начнешь меня намыливать? Не желаю!
— Что тут такого? Все одно сам помыться не сможешь, надо тебе помочь. Вот я и помогу. — Лиза расстегнула замусоленный воротник его рубашки. — Вот, полюбуйся! Загваздал — дальше некуда. Так что все снимай с себя и без всяких ненужных разговоров.
— Ну, будь по-твоему.
Никто не знал, что в эту минуту творилось у него в душе и какой стыд он испытывал. Но и тут, в хате, повторилось то, что уже было на кладбище: Никита подчинился Лизе. Словно бы загипнотизированный, он повесил пиджак на спинку стула, нагнулся, снял рубашку. Он стоял в одних трусах, костлявый, худой, с длинными неуклюже повисшими руками, грудь косматая, словно бы на ней лежал кусочек овчины такого же бурого цвета, как и борода.
— Теперь неси ведра, — приказывала Лиза. — Вода уже нагрелась.
Он покорно взял ведра, вошел с ними в умывальник и, отворачивая бородатое лицо, полез в корыто. Там он опустился на колени, согнулся, будто бы собираясь отвешивать поклоны, и Лиза начала мыть его давно не стриженные патлы. Делала она это быстро, умело. Затем, поливая из черпака воду на голову и на его острые плечи, Лиза пустила в ход мочалку, намыливая ею спину. Никита только покрякивал и молчал. Он не знал, что Лиза впервые в своей жизни мыла мужчину и думала, что это, наверное, только у Никиты такое жилистое тело, такой буграстый позвоночник и такие острые ребра.
— Эх ты, бедолага! Разнесчастный человек! — сочувственно говорила она. — Совсем заплошал. Худущий, остались одни кости да кожа. — Она вылила ему на плечи еще один черпак. — Теперь сам мойся, а я приготовлю постель. Не гнись, красная девица, а бери мыло и мочалку. Вытрешься вот этим полотенцем — и сразу под одеяло. Жаль, что у меня нету ни мужской рубашки, ни трусов. Ну, ничего, подождешь до утра.