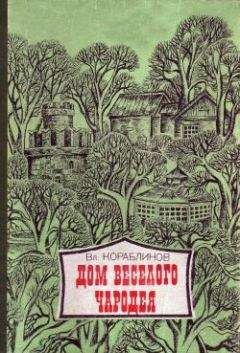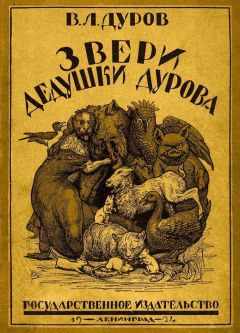Закончив работу во дворе и саду – беседки, заборы, деревянные ступеньки спуска к реке, – пришли плотники: «Конец, хозяин, принимай поделку, готовь расчет…»
– Э нет, голубчики! – воскликнул Дуров. – Тут, ребята, вам еще работы да работы!
И вот все по второму кругу пошло.
Извечно тихий уголок Воронежа вдруг наполнился шумом. За высоким дощатым забором раздавались крики, звонкое чмоканье крокетных шаров, веселый девичий смех. Голоса придаченских, репнинских бабенок, работавших в саду, зазвенели песнями и шутейной перебранкой. Топоры перлёвских плотников снова затеяли целодневный перестук. Работа шла, не стояла: там рубили летнюю кухню, там, на обрывчике, возводили небольшую площадку с точеными балясинами – высокое место, чтоб на вечернем тихом закате чайку попить, полюбоваться просторной далью заречья… А на полугоре игрушечный замок день ото дня вырастал по щучьему веленью…
Все эти привычные человеческие звуки работы и безделья время от времени заглушались иными, непривычными: словно со ржавых гвоздей отдирая доску, истошно ревел осел; парусно хлопали огромные крылья носатой неведомой твари, и кто-то не то скрипуче крякал дурным голосом, не то подкашливал, дразнился, озоровал. Петухи и гуси в расчет не шли, зато гомон полдюжины собак – от густого, басовитого брёха до пронзительной, припадочной визготни, – тревожил, подымал окрестных дворняг, и уж тут такой содом начинался, что хоть святых, как говорится, выноси.
Однако месяц-другой, и улица, ее собаки, ее обыватели попривыкли, да и гомон на дуровской усадьбе сделался потише. Все входило в колею привычки. Дуровский дворник по утрам шуршал метлой, закуривал трубочку, калякал с соседом: «Какие-то ночью дюже шумели на реке, с пьяных глаз, поди…» – «Слыхал, – лениво отзывался сосед. – Придаченские гуляли…»
Тереза Ивановна провожала кухарку на рынок, и та шла не спеша, с частыми остановками, то и дело зазываемая любопытствующими хозяюшками: правда ль, что для дуровских собак особый повар стряпает? Да как же это в доме две барыни живут, одного мужика делят? Да неужто ж обе немки, лютеранки и в русскую православную веру креститься не желают?
Кухарка на вопросы отвечала не сразу, жеманно, важничая; зазванная, кое-где чинно-благородно выкушивала чашечку чая с крендельком.
Вскоре окрестные жители знали всю подноготную дуровского дома. Перевранное, приукрашенное, расцвеченное фантазией рассказчиков и пересказчиков, житие Анатолия Леонидовича создавалось горожанами заново, превращалось в затейливую сказку, где чудеса творились, где хозяин колдовски оборачивался чуть ли не самим чертом, как в опере, недавно игранной в летнем театре Семейного собрания. Где зверь и птица меж собою будто бы изъясняются обязательно на немецком языке, а русского нипочем не понимают, где…
Выдумкам не было пределов.
Но главное, однако, оказывалось в том, что все привыкли к новым удивительным жильцам, примирились с их необыкновенностью и, если не полюбили их, то и злобы на них не держали.
И лишь келарь, отец Кирьяк, по-прежнему ненавидел франтоватого хозяина нового дома и, проходя мимо усадьбы, бормотал в бороду нехорошие слова, а если улица бывала безлюдна, плевался, сердито грозил грязноватым кулаком и производил иные непристойные знаки.
Пуще же всего сей вздорный чернец злобствовал на птицу-бабу, называемую научно пеликан.
– Действительно, – рассуждал крестный, – этакое страшилище никому у нас на Мало-Садовой и во сне не снилось. Однако ж все пребывало скрытно, от любопытных глаз отгорожено высоченным забором. И ни одной щелочки в заборе, представь себе, так, что кто половчее, даже на деревья взбирались поглядеть – а что на дворе, и видели птицу-бабу и двух павлинов. Еще были там ослик с оленем в загородке. Ну и собаки, конечно, во множестве, само собою…
Но вот вскоре наваливается на нашу улицу напасть: мыши в отделку одолели. Бывают, знаешь ли, такие годы – обилие мышей. Это и из истории известно, еще – помнишь? – в прекрасном стихотворении Жуковского описано, как епископа Гаттона мышки сожрали… И вот у нас так же: всюду – брр! Гадость! Мерзость! Открываешь буфет, оттуда – мышь, под одеялом, в постели, в сундуках, в укладках – мыши, мыши, мыши… Не поверишь: собрался как-то на охоту, сажусь набивать патроны, развязываю мешочек с порохом – ах, черт! Мышь!
Но ты слушай, слушай!
Откуда-то возник вдруг слушок: пеликан пеликаном, павлины и прочее, это ладно, это не суть важно, но, оказывается, у нашего знаменитого артиста еще и многие тысячи крыс имеются, сидят по клеткам и даже, представь себе, размножаются в неволе. И тут приводился удивительный случай, когда они у него разбежались в дороге, – дело где-то за границей было, – и весь вокзал, о ужас, заполнился крысами! Ну-с, паника, конечно, дамы в крик, в визг, полезли на столы, юбками трясут… Мужчины тросточками отмахиваются от назойливых тварей… И тут о н появляется собственной персоной – сюртук, крылатка, цилиндр, все с иголочки, – бонвиван! «Силянс, господа! Айн, цвай, драй…» И достает дудочку и вот на ней наигрывает, вот наигрывает… и все, как есть, до одной, побежали крысы к нему, облепили с ног до головы, и он их всех по специальным клеткам рассадил.
Сия история-то и навела на мысль. «Стоп! – соображаем. – Так и мыши наши – не от него ль?» Долго не размышляя – делегацию к нему. «Так и так, уважаемый Анатолий Леонидыч, извольте в дудочку посвистеть». – «В какую еще, черт возьми, дудочку?» Объясняем. А он – хохотать. Минут с пять этак его корчило, наконец – «Пожалуйте, говорит, убедитесь». Провел делегацию в сарайчик, там – клетки проволочные и в них, действительно, крысы. Ну, не тысячи, разумеется, но порядочно. И все белые и крохотные, не то что наши пасюки. «Вот, говорит, это м о и крысы, а что там у вас завелось – не имею представления. У меня в а ш и х нету…» И посоветовал повсеместно кошек завесть, ну и мышеловки, безусловно.
Нуте, год мышиный миновал, и все сделалось по-прежнему, тихо-смирно. Он же, как стало известно, своих зверьков натаскивал для номера. «Дуровская железная дорога» – так впоследствии этот номер назывался.
Знаменитейший номер, много наделал шуму!
Сколько-то лет спустя сию выдумку с железной дорогой братец его, Владимир Леонидыч, себе приписал, но это решительный вздор-с! Можешь мне поверить, честью русского офицера клянусь!
Нет, мой дружок, я не собираюсь отнимать у Владимира Леонидовича его заслуги, он там что-то по звериной психологии пишет и сочиненья издает, ученые как бы труды даже и прочее… Отлично! Приветствуем! Но выдумщик-то ведь Анатолий был – художник! Артист! Яв-ле-ни-е!
И тут уж с этим надобно смириться.
Она почти нигде не бывала, жила отчужденно.
Ее видели прогуливающейся по тихим прибрежным уличкам, изредка в театре, когда приезжала опера. Чаще же всего – в немецкой кирхе.
Сорок с лишним. Роды и кормление четверых детей (первый умер грудным), нелегкая скитальческая жизнь артистки, полная не только праздничного блеска манежа, оваций, сувениров, но и многих печальных непредвиденностей. Все это, разумеется (и дети особенно), оставило бы глубокий след на внешности, на характере любой женщины; осанка, фигура, голос, легкая раздражаемость, даже сварливость, может быть, лучше всяких слов сказали бы о возрасте, о близости заката.
Но она шла по улице своей неторопливой походкой, стройная, как девушка, элегантная изысканной простотой одежды, и встречные мужчины оборачивались, провожали взглядом – так все еще много было в ней обаяния. Она была красива, но не той красивостью, какую часто принимают за красоту, а чем-то более высоким, необъяснимым, вневозрастным; тем, что отличает старинные изображения скромных старонемецких мадонн от пышных портретов королев, принцесс, герцогинь, – светлой духовностью.
С годами она сделалась богомольной. В новом доме, устраивая свою спальню в нижнем этаже, она не пустыми безделушками убрала комнату, не фарфоровыми расписными тарелочками и картинками с каульбаховскими красотками, – нет; слоновой кости распятие старой, грубоватой немецкой работы и дюреровский «Иероним в келье» со львом – вот что украсило ее немного темноватое, с низким потолком обиталище на Мало-Садовой.
– Да что с тобой, Тереза? – удивлялся Дуров. – Откуда это у тебя? Прости, не пойму…
– Ах, Тола (она называла его Т о л а ), – кротко улыбалась. – Твой Акулина сделался старый… Что понимать?
Она часто в разговоре с ним звала себя «твой Акулина». Вспоминала те далекие годы, когда сделалась вдруг клоунессой и работала в паре с ним под именем Акулины Дуровой. Размалеванное мелом и синькой лицо, колпак с бубенчиками, шаровары, нелепый, смешной балахон. Дурацкие прыжки, сальто-мортале; дребезжащим, противным голосом кричала: «Эй, юхнем!» – и публика ржала, была довольна ее противоестественным, не женским нарядом, дурацкими прыжками. И, главное, о н был доволен, – чего же еще она могла желать? Да прикажи он ей изобразить петуха Шантэклера, из модной ростановской комедии, – она и петуха с радостью изобразила бы. Лишь бы л и б е р Т о л а был доволен.