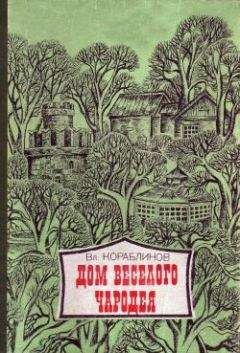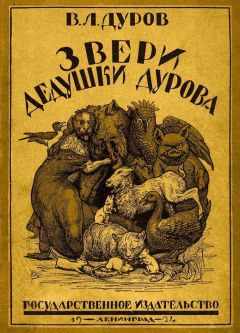– Ах, это… – произносила разочарованно.
– Экая немецкая чушка! – сердито, сквозь зубы бормотал Дуров.
А через минуту забывалось неприятное чувство – и снова восторги от встречи с милой Россией, по которой соскучился, как по родимому дому. И вот так, в радостном волнении, в какой-то неизъяснимой детской приподнятости, весело балагуря с соседями по купе, охотно знакомясь со всеми, готовый обнять каждого, нигде не останавливаясь, проехал до самого Воронежа.
На вокзале их встретили Клементьич и Проня.
– Что барыня? Что дети? – расцеловав обоих, спросил Анатолий Леонидович.
– Слава богу, слава богу, – цыплячьим, петушиным голоском пропел карлик. – Все строимся, кукареку, и конца не видать.
Увешанный чемоданами Проня – «Будя брехать-то, – буркнул в бороду. – Как это не видать?»
– Ты его, Ленидыч, не слухай… Козявка! К успенью, самое позднее, в дом войдешь. А живность – хоть сейчас вези – закута в лучшем виде, и стойла, и клетки, прямо – ах!
Цирк, одним словом… Ей-право, цирк!
Вышли на вокзальную площадь. Солнышко. Воробьи. Извозчики. Галки над часовней.
– Ах, славно! – зажмурился Дуров. – А, Еленочка? Домой, ты понимаешь, домой приехали… И будем тут жить навечно!
Она с любопытством оглядывалась. Лошади, лошади, лошади. Бородатые мужики в синих кафтанах, похожих на длинные юбки. Запах конюшни и жареных пирогов. Крендель над вывеской пекарни. Пыльные тополя… Навечно? Ну, нет… Это Тереза пусть навечно живет в этой ужасной дыре, а она, Бель Элен, с ее молодостью, с ее именем, с ее…
Она не знала, как еще и возразить.
Она еще многого не знала. И самое главное, того, что именно ей придется прожить в Воронеже не год, не два, а более двух третей столетия, пережив Анатолия Леонидовича почти на пятьдесят лет…
Нет, не две соперницы встретились в этот день, а две артистки. Две участницы одного великолепного представления. И нечего им было делить между собою и не из-за чего ссориться. Будь они русскими, может быть, все вышло бы иначе. Но… старшую звали Тереза Штадлер, младшую – Елена (Элеонора) Гертель.
Они обнялись и немножко поплакали. «Будем его беречь и любить», – шепнула старшая. «Да, да!» – закивала молодая.
– Поплачьте, поплачьте, – сказал Дуров. – Это хорошо.
Наскоро перецеловал детей и, сопровождаемый верным личардой – Клементьичем – зашагал на Мало-Садовую.
А там штукатуры распевали «Ивушку зеленую». Там веселый сквозняк гулял по обоим этажам; на заляпанных мелом полах выступала пахучая сосновая смола. И просторная зеленая земля с голубою рекой и зеркальными озерцами обозревалась с верхней веранды на многие версты.
– Ах, чудесно! – вскрикнул Дуров. – Ну, веди, Клементьич, показывай…
В глубине двора новой кирпичной кладкой краснело приземистое строение. Через распахнутые воротца виднелись стойла с кормушками, тускло поблескивали металлические сетки клеток. Это было помещение для животных и птиц, артистов дуровского цирка.
– Чем не гранд-отель! – хихикнул Клементьич. – Хватит нам по чужим-то квартерам горе мыкать…
– Ну-у! – только и сказал Дуров.
Как малютку, поднял карлу высоко, звонко, в обе морщинистые щечки расцеловал.
– Вот уж верно говорят: мал золотник…
Клементьич сиял, радовался, что угодил. Для него Анатолий Леонидович после господа бога первое место занимал на грешной земле. Сказал бы: умри, Клементьич! – и, не задумываясь, отдал бы крохотную свою душу, только б угодить повелителю.
Пахнущий речной свежестью, Проня пришел. Босой, в холщовой чистой, с красными ластовицами рубахе, с еще не просохшей бородой-лопатой, расчесанной волосок к волоску. Присев на порожек веранды, вынул из бездонного кармана малую баночку с изображением некой девы и надписью «Ралле и К0»; открыв ее, зачерпнул изрядную щепоть, нюхнул шумно, с удовольствием.
– Пользительная вещь, – помотал головой, отчихавшись. – В грудях легкость и глаз вострит.
– Дай-ка, – попросил Дуров, пристраиваясь рядом.
– Ну, стал быть, посидим перед дорожкой…
Не спеша, аккуратно, как и все делал, Проня принялся обуваться. Чистую онучку встряхнул, обернул ножищу; новенькими лаптями постучал друг о дружку, прежде чем надеть.
– То есть как это – перед дорогой? – удивился Дуров. – Про какую дорогу толкуешь, парень?
– Иттить надумал Ленидыч, – сказал Проня. – Засиделся тут с вами… Хочу, брат, в Танбов податься, туды, слышь, борцы нонче сбираются. А дом, ежли, скажем, твой – так теперь и без меня присмотришь, он ить, почесть, готовый…
– Ах ты, бродяга! – рассмеялся Дуров. – Ну, вали, вали, что с тобой сделаешь… Вот на-ка, держи, спасибо тебе, друг…
Протянул Проне две сотенные бумажки.
– Да ты что! – Богатырь решительно отстранил руку Анатолия Леонидовича. – Нешто ж я за деньги? Я ж те, как другу…
– Не обижай, Проня!
– Бери, бери, – молодым петушком пропел Клементьич. – Пригодится в дороге-то. По дружбе ведь, кукареку…
– Ну, разве что так, – согласился Проня.
В конце лета тысяча девятьсот второго года дом, сияющий свежей покраской и чисто-начисто вымытыми окнами, был готов совершенно, и дуровское семейство сделалось постоянными воронежскими жителями. К числу скольких-то тысяч «мужеска и женска пола», подсчитанных при последней переписи, город Воронеж увеличился на восемь человек.
В новом доме полагалось отслужить молебен, окропить стены святой крещенской водою. Но Анатолий Леонидович, не зная об этом обычае, отнесся к нему легкомысленно.
– Э, подумаешь, пустяки какие! Терпеть не могу поповского духу!
– Ну уж нет, – решительно возразил Клементьич. – Терпи не терпи, пожалуйста, дело твое, а тут изволь, подчиняйся обычаю, зови попа…
– Ну, черт с ним! – махнул рукой Дуров. – Давай, действуй.
Церемония оказалась длинной и скучной. Плешивый попик читал-бормотал бесконечный акафист; затем пучком мяты, оставляя на новых обоях черненькие точки брызг, окропил стены и мебель. – Дуров стоял во главе семьи, торжественный и строгий, как требовал обычай, с сияющей звездой Парижской Академии искусств на лацкане сюртука, – важный барин, провалиться на этом месте, статский генерал!
Когда подходили к кресту, попик, вероятно оценив величественность хозяина, его великолепную звезду, смешно шаркнул сапогом и сказал:
– Будьте любезны-с! – а уж потом протянул крест дамам.
– Лютеранки, батя! – весело подмигнул Дуров.
– Ничего-с, – ласково сказал попик.
Затем был обед, и хлопали пробки цимлянского. Тереза Ивановна радушно угощала:
– Битте… Кушайт пирожка…
Так начался воронежский период жизни Анатолия Леонидовича. Пришел конец бродяжничеству, наступала новая, не похожая на прежнюю жизнь. Дом был записан на Терезу Ивановну. Письма адресовались: Мало-Садовая, дом Т. И. Штадлер. Его высокоблагородию А. Л. Дурову.
И тут оказалось вдруг, что у него накопилось невероятно много вещей. Страсть к собирательству еще в детстве зародилась: то почтовые марки, то серебряные пятачки, то конфетные фантики. Вечно чем-то увлекался, что-то искал и радовался, если находил, любовался новым приобретеньем. Такая страсть его и взрослого не оставляла, но теперь это уже не фантики и не перышки были, а причудливая мебель, посуда, оружие, народные художества. Так на Кавказе у жуликоватого осетина купил старую шашку редкой, искусной работы, будто бы принадлежавшую Шамилю. В Туркестане поразили богатые седла и чеканка на медных блюдах – и, не торгуясь, купил и посуду, и конскую сбрую. В глухой деревеньке Коротоякского уезда отыскал целый сундук старинных бабьих нарядов – кокошники, кофты, плахты, сарафаны. Жадность коллекционера накапливала вещь за вещью, но не было своего пристанища, и их приходилось хранить в домах друзей, в чужих кладовках и сараях. Теперь, собранные в собственном доме, вещи поразили своим количеством: черт возьми! Да ведь это – музей! «Так вот, – подумал он, – вот для чего воронежский дом и усадьба!»
Вспышка озаренья – и он увидел, как все устроится. Не хранить же, в самом деле, собранное за многие годы вот так, взаперти, по углам дома, в гостиной, в зальце, в кабинете! Как же не показать свои редкости, свое интереснейшее собрание землякам-воронежцам! Но для этого требовались еще какие-то постройки или уж, на худой конец, пристройки к дому, где можно было бы широко, просторно разместить музей… Да, вот именно – музей. А? Слово-то, слово какое!
Сказал о своей затее друзьям. Кедров так и взвился, кинулся его обнимать: «Чертушка! Так ведь это же великолепнейшая страница в истории города! Располагай нами, мы твои неизменные друзья и помощники!»
С Семеном Михайловичем засели за чертежи. На бумаге возникло новое интересное сооружение: сквозь буйную карандашную пачкотню, в лохматой неразберихе эскиза вырисовывалось нечто вроде средневекового замка или, сказать вернее, развалин живописных – с зубчатой башней, со стрельчатыми готическими окнами… Диковинный павильон предназначался для выставки редкостей – картин, посуды, оружия.