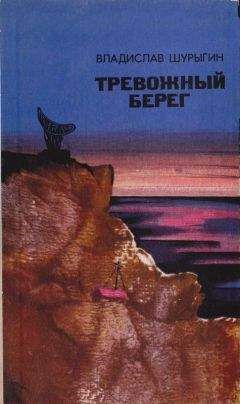Бакланов приложил руку к панаме:
— Ну, все! Бывайте, ребята! Надо спешить.
Парни почтительно смотрели ему вслед.
Филипп шел по улице и раздумывал: «Итак, что мы имеем в лирическом активе, Филипп Иваныч? Мы имеем любовь казенного короля к бубновой даме, то есть к Юле, но в результате всего этого — пустые хлопоты. Нет уж, хватит. Все же Семенюк в чем-то прав. Надо быть активнее, и, действительно, хватит лирики».
Ну, а так как в глубине души Филипп Бакланов считал себя поэтической натурой, то и на этот раз он не обошелся без сравнений: «Жду, когда ее чувства распустятся, как весною листья. А почки на ветвях наших отношений по-прежнему маленькие, коричневые. Какие бывают зимой…»
И, уже идя по коридору Дома культуры, снова подумал, что ему в отношениях с Юлей не хватает решительных действий.
Бакланов открыл дверь, вошел в библиотеку. Вошел и замер у барьерчика, увидев Юлю. Какая она маленькая и стройная! Стоит на лесенке, вся пронизанная солнечными лучами, ищет какую-то книгу. На ресницах и губах по кусочку солнца. На смуглых, крепких ногах, касающихся коленями лесенки, — солнце. И даже на черных маленьких туфельках по солнечному зайчику.
Филипп смотрел на нее широко открытыми глазами, не в силах перевести дыхание и сказать, простые слова: «Юлечка, здравствуй!»
Она почувствовала на себе взгляд, повернула голову:
— Это вы? Здравствуйте!
— Здравствуй! Вот, забежал на часок. Как она, жизнь молодая?
— Хорошо. А у вас как?
— Нормально. Служу — не тужу.
— Да, не видно, чтобы вы тужили.
— А это смотря в каком смысле. Если по тебе, то вот видишь — не усидел, прибыл собственной персоной. Значит, тужу.
— Просто вам скучно.
Он не ответил, прошел за библиотечную перегородку и остановился рядом с лесенкой. Теперь только чуть протянуть руку — и коснешься черных туфелек. Смуглые, красивые ноги ее так близко, что видны голубые жилки. Филиппу мучительно захотелось снять ее с лесенки. Взять в охапку и снять. С трудом поборов в себе это буйное желание, он опросил:
— Между прочим, что бы ты сказала, если бы я после армии здесь подзадержался, а?
— Как… задержался?
— Ну, в смысле, остался жить здесь насовсем, работать, как все.
Юля молчит, она не сразу находит слова. Очень странный вопрос.
— Если нравится здесь, то конечно… У нас хорошо. Лично мне нравится.
— И мне тоже… Море рядом. Совхоз нельзя сказать чтобы отличный, но жить можно. Дом культуры, школа, библиотека… Между прочим, из-за моря…
Филипп хотел сказать, что из-за моря он здесь и остается, но вовремя спохватился — не совсем так. Разве только из-за моря? Хотя и оно играет большую роль.
— Директор недавно говорил, что на Чайкином мысу причал удлиняют. Вторую рыболовную бригаду создадут. А через полмесяца мотоботы пригонят из Морского. Так что твоему бате в конкуренты пойду, раз в свою бригаду не очень-то хочет брать.
Об этом уже был разговор с Юлей, и она знает, о чем Филипп говорит.
Отец Юли — Иван Иванович — бригадир у рыбаков. По характеру он неразговорчивый и даже угрюмый. Вытянуть из него фразу — событие. На то были свои причины, но Бакланов о них не ведал и потому, заводя однажды разговор о рыбацкой доле, о том, что и ему, Филиппу, видно, написано на роду «ловить сетями удачу», услышал в ответ короткое:
— Почему же на сухопутье служишь?
А Филипп возьми и ответь, что в сухопутных частях служба на год короче. Иван Иванович усмехнулся и бросил с иронией:
— Так, понятно…
Надо было слышать, как он это произнес. Повернулся и пошел по сходням на свой баркас. Прямой, гордый, шелестящий жесткой одеждой, в большущих, не по ноге, сапогах. Сапоги жикали один о другой, точно поддакивали хозяину: «так-так». И забыть бы о том разговоре, но ведь Иван Иванович — Юлькин отец. При нем Филипп испытывал непонятную робость. Когда ночью Юлю с танцев провожал, увидел у знакомых тополей огонек цигарки. Спросил:
— Отец, что ли, курит?
— Отец.
Дальше не пошел. Простился возле чужого дома. Почувствовал, что не о чем будет толковать с ее отцом. Неразговорчивый он, непонятный. А Юлька такая непохожая на отца. Разве что порою… Эта никчемная серьезность. В ее-то возрасте! Ну да ничего!
Филипп подошел к лесенке, на которой стояла она, перебирая книги. Загородил ей дорогу, широкоплечий, улыбающийся.
— Не пущу. Прыгай!
— Ну что вы, Филипп.
— Слабо, да? Трусиха?
— Я буду стоять, пока вы не отойдете.
— Да?
— Да.
— Юлечка, а что это за книга в красном переплете? Вон, на верхней полке. — Он протянул руку, указывая на самый верхний стеллаж, и, едва она подняла голову, чтобы посмотреть на эту книгу, он ловко обхватил ее и, прижав к себе, снял с лестницы. Юля вскрикнула, стала требовать, чтобы он отпустил ее. Но Филиппу показалось, что в голосе Юли не было обиды. Он обхватил ее еще крепче:
— Представь себе, что ты на параде. На демонстрации. Первое мая, музыка, народ, а я тебя несу на плече…
— Пустите сейчас же, Филипп! Вы с ума сошли!
Теперь в Юлином голосе слышалась власть, и он подчинился. Медленно разжал руки, и Юля соскользнула вниз. Едва она коснулась пола, как он еще крепче прижал девушку к себе, запрокинул ее голову и впился губами в ее губы. Она попыталась вырваться, и, когда ей это удалось, он увидел в глазах девушки слезы, удивление и боль.
Нет, она не влепила ему пощечину, как, возможно, сделала бы другая. Она отпрянула от Филиппа и поспешно вытерла рукою губы, словно после горькой полыни…
В карих глазах качались слезы.
— Сейчас же уйдите! Уйдите! Как вы могли?
В жизни Филиппа бывало всякое: бывало, и обижались. Но чтобы вот так искренне, так отчаянно… Он не решился приблизиться к ней, поправил чуб и деланно улыбнулся:
— Ну вот, гонят за барьер, как на дуэли. Ты что, серьезно обиделась?
Сам же видел — серьезно. Видел, но радостно ощущал на своих губах тончайший вкус парного молока, вкус ее губ, и показалось ему, что пройдет ее обида (проходила же у других!) и будет все у них по-прежнему. Нет, не по-прежнему, а лучше! Филипп зашел за барьерчик и опустил доску — «шлагбаум». В это время открылась дверь, в библиотеку вошел Русов. В одной руке панама, в другой — платок. Жарко.
— Я не помешал? — Он заметил в Юлиных глазах медленно гаснущую обиду. Извинился, сказал, что в другой раз зайдет, и удивленно взглянул на Филиппа. А тот, облокотившись на барьер, выжидающе молчал. В глубине души он был даже рад, что пришел кто-то и прервал грозовую паузу Юлиного молчания… И все же почему-то было неприятно, что пришедшим оказался Русов. Долг приличия требовал что-то произнести, и Филипп буркнул:
— Пожалуйста. Я свою книгу выбрать успею.
Юля заставила себя проглотить слезы и, будто бы что-то поправляя на книжном стеллаже, отвернулась:
— Одну минуточку. Я сейчас…
Ушла. А между Баклановым и Русовым повисла тишина. Филипп, усмехнувшись, опросил:
— Значит, решили приобщиться к местной культуре? Ничего библиотека, да?
— Вижу, — ответил Русов и подумал, что надо бы какое-то другое слово сказать, а не это. А Бакланов скользнул зелеными глазами мимо лица Андрея, неприязненно решив: «Ишь ты, какой наблюдательный! Шустряк парень!»
Юля вышла из-за стеллажей. Подчеркнуто спокойная, строгая. Вот только чуточку покрасневшие глаза выдавали ее да еще руки, не находившие места.
— Я вас слушаю, — сказала она Андрею.
— Да вот хотел бы записаться в вашу библиотеку… Это можно?
— Да. Сейчас запишу.
Тонкими пальцами выбрала она из пачки чистую карточку и ровным красивым почерком занесла все данные.
— Какие книги вас интересуют?
— Учебники за десятый класс по литературе и математике и что-нибудь из художественной литературы по программе средней школы.
— Сейчас, подождите минуточку.
Голос ее потеплел. Она мельком взглянула на нового читателя. Широкоплечий парень. Спортивная прическа — «ежик». Обыкновенное, ничем не примечательное лицо…
«Вот, — подумала она, — еще один человек, мечтающий об институте. И не просто мечтающий… Интересно, в какой институт он хочет поступить?»
9Стояли последние дни июня. Где-то возле больших и малых белых городов, возле жесткой, по-южному вызывающей зелени гор кипели, смеялись, блаженствовали пляжи. Люди, люди… Тысячи взрослых и маленьких, толстых и стройных, седых и юных обнимали мягкий песок, простирали к солнцу руки, подбрасывали вверх разноцветные мячи, кидались в голубизну радости, именуемой коротким словом — море. Здесь же, в степной, пустынной части южного побережья, дремали короткие тени, волны лизали ноздреватые камни.
Решетчатые крылья точно вросшего в берег локатора отвернулись от надоевшего им моря и задумчиво смотрели на далекие тополя совхоза. И вокруг, куда ни глянь, — лишь изрезанный морем каменистый берег. Ни туристской автомашины, ни палатки «дикаря». Только белые от солнца скалы да не разгоняемая ленивым ветром полуденная духота.