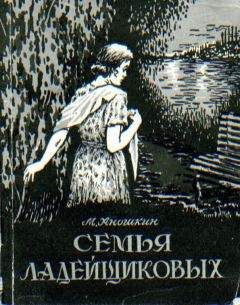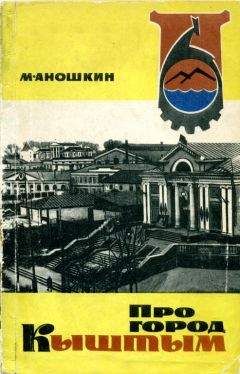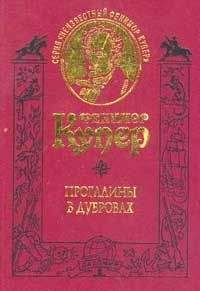— Ладейщиков! — позвал он его. — Обожди, куда ты?! У нас же заказ, срочный заказ!
Но Петра сейчас не остановила бы никакая сила. Он в этот день в цех не вернулся, а домой явился пьяным, еле держась на ногах. Петр упал на кушетку, минут пять лежал без движения и вдруг вскочил, направляясь к двери. Тоня кое-как остановила его. А он порывался идти на розыски Мамкина, чтобы поквитаться с ним за все злодеяния. Скоро заряд воинственности у него иссяк, и Петр заснул.
Утром, вспомнив, что с ним произошло, Петр решил больше не ходить на завод. Тоня спросила:
— Ты почему не собираешься?
— Не пойду.
— Как не пойдешь? — удивилась она. — Да ты думаешь, что говоришь?
— Думаю.
Она гневно взглянула на него в упор и покачала головой:
— Раскис. Разве можно до такой степени опускаться?
Он молчал.
— Собирайся и пошли! — сурово сказала Тоня. — Ну, чего же ты медлишь?
И он ей повиновался.
Через несколько дней поступок Петра обсуждали на партийном собрании и записали выговор. Кузнец, выступая на собрании, в недоумении развел руками и только сказал:
— Ничего не пойму, товарищи! — А потом поскреб затылок и добавил: — Однако и я хорош! Недоглядел — вперед наука мне. Вот и все.
Петр тяжело переживал все это, избегал разговора с кузнецом. А тот, в короткие минуты отдыха, подходил к Петру, спрашивал о чем-нибудь. Петр отвечал односложно и думал: «Что ему надо от меня?» Чаще, словно по пути, стал заходить парторг и рассказывать разные новости. Петр плохо слушал его: он решил уйти из этого цеха. Когда он подал заявление об уходе, ему отказали. Кузнец, узнав об этом, неожиданно рассердился: обиделся за свою профессию. Он взял металлический обрубок, сунул его в горн и, когда тот раскалился, схватил обрубок клещами, сказав Петру на ходу:
— Гляди!
Кузнец работал небольшим молотком, работал азартно, с перестуком. Петр изумился: в ловких руках кузнеца бесформенный обрубок превращался в замысловатую вещицу — не то цветок, не то в ветку березы.
— На! — кузнец положил на цементный подоконник еще не остывшую вещицу.
— Здорово! — не выдержал Петр.
— Легкий ты человек, Ладейщиков, — сказал кузнец, вытирая с лица пот. — Хоть ты и грамотный, а ничего не смыслишь. Ты мне лучше в глаза наплюй, но кузнечное ремесло не позорь! И уходи, коли нет в тебе души. С глаз долой!
Но Петр не ушел, он даже не обиделся на горькие слова кузнеца. Ему было стыдно.
Вскоре после этого случая Петра вызвали в цеховое партийное бюро, и парторг сказал ему:
— Думаем дать вам, Ладейщиков, ответственное поручение. Заболел редактор цехового «Крокодила». Вам когда-нибудь приходилось иметь дело со стенной газетой?
— В школе.
— Хорошо. И стихи, наверно, писали?
— Было, — покраснел Петр.
— Вот видите! Согласны?
У Петра нехватило духу отказаться. Уходя от парторга, он недоумевал — недавно выговор записали и вдруг такое дело доверили! Неужели другого не могли найти?
Но над «Крокодилом» Петр трудился на совесть, потратил пять дней. Два члена редколлегии рисовать не умели и писали неважно, зато в изобилии снабдили Петра фактами, и ему стала известна масса разных цеховых новостей, которых раньше он никогда бы и не узнал.
Когда вывешивал готовый номер, боялся — вдруг никто не подойдет, вдруг его труд никого не заинтересует? Волнение было напрасным. У «Крокодила» столпились рабочие, послышались веселые разговоры, смех.
Петра охватило радостное волнение, и он вышел из цеха. Назавтра к Петру подошел парторг, крепко пожал руку и, улыбнувшись, сказал:
— Наделали вы шуму своим «Крокодилом». Хорошо! Что ж, придется вас сделать постоянным редактором. Нынешний редактор болеет часто, освобождать его надо. А вам это дело в самую пору. Договорились?
Петр не возражал.
— Ну и чудесно! На первом же собрании мы вас и утвердим.
* * *
Это были трудные для Тони дни. Петр приходил домой усталый, молчаливый, равнодушный ко всему. Придет домой, бросит спецовку, покушает и ложится на кушетку, заложив руки за голову, и думает о чем-то. Когда он снова появился пьяным, когда она узнала, что случилось с Петром в цехе, Тоня не находила себе места и готова была по-своему расправиться с Петром. Но утром, увидев, как он спит, раскинув руки, увидев его по-детски обиженное выражение лица, ей вдруг стало его жалко, и она не сказала ему тех обидных слов, которые появились во время бессонной ночи.
На работе ей вручили письмо. Тоня удивилась: ей никто не писал на заводской адрес. Письмо было от Никиты Бадейкина.
«Дорогая Тоня! — писал Никита. — Пишу тебе из Челябинска. Работа моя идет успешно. Здесь меня приняли радушно, создали все условия для работы. Сегодня я засиделся. Посмотрел на часы: время уже два, а спать совсем не хочется. Вот я и решил тебе написать. Извини меня за это, но я не мог удержаться от соблазна написать тебе.
Я очень долго размышлял над тем коротким разговором, который у нас с тобой произошел в тот вечер в саду. Я вспомнил день, когда мы впервые с тобой встретились. Это ведь было в первом классе. В первом классе! Десять лет мы учились с тобой почти за одной партой, десять лет мы дружили с тобой! Еще раз прости меня, Тоня, за то, что я ворошу наше прошлое, но оно, это прошлое, отчетливо вспомнилось после того вечера. Я вижу: нескладно у тебя сложилась жизнь, трудно тебе с Ладейщиковым…»
Тоня не дочитала письма. Она разорвала его на мелкие кусочки, сжала их в кулаке, задумчиво глядя в окно. Брови у ней были насуплены, губы сжаты — сейчас она была особенно красивой, мужественной. Тоня постояла минуты три, потом распахнула окно и выбросила изорванное письмо. Бумажные лепестки подхватил ветерок, рассыпал их в стороны.
В кабинет кто-то постучал, Тоня вздрогнула, села за стол. Скоро она забыла о письме Никиты.
Дома Тоня все устраивала так, чтобы ничто Петра не раздражало, не напоминало ему о прошедшей перемене.
Однажды вечером, когда они оба были дома, к ним ввалился дед Матвей. Дед поздоровался и, передавая Тоне сумку с рыбой, объяснил:
— Проведать пришел и окунишек вот принес. Давай-ка, дочь, сваргань нам уху.
Петр оживился. Тоня, увидев в нем эту перемену, обрадовалась, принялась готовить рыбу. Петр подмигнул деду Матвею и стал собираться.
— Куда? — спросила Тоня.
— Сама понимаешь.
— Не ходи, не надо.
— Никудышнее твое дело, Петр, прямо тебе скажу. На работе — она тебе командир, дома — командир. Ты хоть дома-то не поддавайся.
— Ничего не поделаешь, — развел руками Петр. — Мы дисциплину уважаем.
Тоня улыбнулась и сказала Петру:
— Ты думаешь, он пустой пришел, только с рыбой? Как бы не так! Ты пошарь у него в карманах.
Дед Матвей осуждающе покачал головой:
— Ежели бы моя Анна такой верх взяла надо мной, я бы, конечным образом, убег от нее. Верное слово.
— Однако и тебе от мамы не раз попадало.
— Экая ты! — нахмурился дед Матвей и вытащил из кармана бутылку водки.
Петр рассмеялся.
За ужином дед Матвей дотошно расспрашивал Петра о новой работе. Петр отвечал неохотно, а старик не унимался.
Тоня постаралась перевести разговор на другую тему.
— Слушай, отец, мы к тебе скоро удить рыбу придем, — заявила Тоня.
— Рыбаки аховые, — засмеялся старик. — От вас вся рыба в глубину убежит.
— Не убежит! И на нашу долю останется. Мы не жадные, нам немного надо.
Дед Матвей засиделся допоздна, уходя, он напомнил Тоне, чтобы на рыбалку приходили с вечера, а утром пусть лучше и не показываются.
Тоня, сказав про рыбалку лишь для того, чтобы переменить разговор, сейчас подумала о том, что и в самом деле неплохо бы провести выходной день на озере. Она и сказала об этом Петру.
— Брось, пожалуйста, эту затею, — поморщился он. — Не пойду я.
«Пойдешь! — подумала Тоня. — Уговорю!»
И хотя Петру не очень хотелось идти на озеро, тем более на ночь глядя, но он уступил уговорам Тони.
В субботу они собрались в недальнюю дорогу. Славика оставили у бабушки.
Дед Матвей поджидал гостей. На костре кипела уха. Дед то и дело поглядывал на дорожку, теряющуюся в лесной чаще.
Петр и Тоня пришли перед заходом солнца. Уже окутался синевой дальний берег.
— Смотри, смотри! — тихо сказала Тоня Петру. Он не мог догадаться, чего от него хочет Тоня, и растерянно смотрел туда, куда она ему показывала рукой.
— Боже мой! — с досадой всплеснула она руками. — Сюда смотри, а не туда!
Петр взглянул и увидел возле камышей серую утку и маленьких утят. Они плавали, ныряли и негромко переговаривались на своем птичьем языке.
— Невидаль какая, — проговорил дед Матвей, отодвигая котелок от костра, — их тут развелось уйма! Гомонят день-деньской, окаянные. Ужо осенью от них полетят перышки!