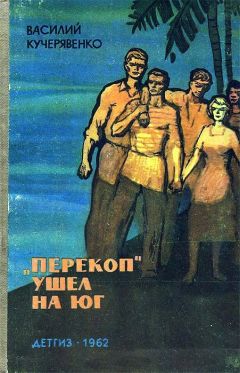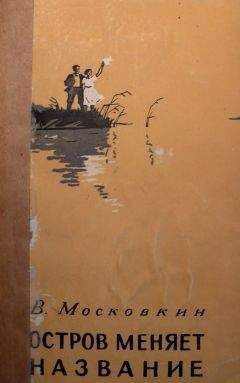3
В Вощажникове Гусев ушел по своим делам к управляющему имениями графа Шереметьева, наказав Артему ждать его в трактире. Артем поднялся на второй этаж в помещение— гул голосов оттуда слышался еще на лестнице. Посетители были те же мужики, ездившие на базар в Борисоглебские слободы и в Ростов и сейчас остановившиеся в трактире перед тем, как разъехаться по своим деревням. За каждым столом шел оживленный разговор: делились новостями, которые привезли из города. Особенно взбудораженной казалась компания возле окна. Артем не слышал, о чем они спорили, он только обратил внимание на высокого плечистого мужика с седыми волосами. Тот, стоя, презрительно говорил своему соседу:
— Петуха на зарез несут, а он — кукареку.
Сосед его, тоже хорошего сложения, со спокойным, умным лицом, отвечал с хитроватой улыбкой:
— А мне что? Мне просто… Лег — повернулся, встал— отряхнулся, и все тут. Не было ничего, и большего не жду.
Артем выбрал свободное местечко, попросил чаю и принялся читать письмо, которое дали Гусеву в канцелярии уездного исправника. Письмо, как говорил Гусев, было написано их деревенским мужиком, Павлом Барановым, возвратившимся недавно с фронта по ранению. Он отправил его своему брату в Австрию — брат находился в плену.
«…Дорогой Коля, — читал Артем, — вам, наверно, плохо, но и здесь не сладко: ничего нет… Сахару нет, табаку нет, все дорого. Костюм, который стоил 20 рублей, теперь 75 рублей. Все дорого, и всех забирают на войну. Стариков, первый и второй разряд, забрали до срока и новобранцев всех будут брать до восемнадцати. И не дождемся, когда это все и кончится. У нас уж говорят умные головы, что вся Россия пропадет, а покорит немец. И никто ничуть не говорит о мире. А в городах обученные городовые ружейным приемам и пулеметной стрельбе ожидают забастовок. А мы, раненые, тоже ждем мобилизации. Скоро и нас будут брать…»
Артем читал письмо без особого внимания, больше прислушивался к тому столу, за которым шумно спорили. Пока в письме ничего крамольного он не видел, и неуми, как выразился Гусев, тоже не было.
За столом у окна седой плечистый мужик с презрением говорил:
— Вертляв. В тебя и в ступе пестом не угодишь.
И опять его сосед спокойно отвечал:
— Я не дурак, чтобы лбом орехи щелкать.
«…Коля, пришли мне письмо и опиши все, — читал Артем. — Если тебе плохо, то поставь кружок, если хорошо — поставь крестик. Если не хватает хлеба, то опиши так: я с таким-то товарищем вижусь редко, а хватает хлеба, то пиши: вижусь часто.
И еще. Если у вас там австрийского войска много, то поставь поначалу письма букву „М“, а мало — букву „Н“. А если у вас там говорят, что победа будет на русской стороне, то поставь букву „Р“, а на немецкой — букву „Г“.
Я все думаю, Коля, как мы страдаем. А этому всему виновник правитель России, за которого помирает и гибнет невиновных людей миллионы. А не лучше ли, чем нам страдать и терпеть холод и голод, уничтожить этого кровопивца?..
Затем до свидания, дорогой Коля. Буквы ставь так, как удобнее для тебя. Мы здесь поймем: у меня записано, что к чему идет.
1916 г. 5 декабря».
Вслед за письмом шла приписка военного цензора:
«Такой образ суждения, указывая на полное отсутствие патриотизма, сознания долга перед престолом и Родиной, наконец, самой простой порядочности, увеличивает вину Баранова тем, что он, как воин (то видно из письма), который по долгу присяги обещал отстаивать неприкосновенность царской власти и достоинство родной страны, вместо этого сам посылает письмо во враждебную страну. Там это даст повод врагам ложно истолковать единичные печальные случаи, как всеобщее явление, составляющее признак разложения государства. Военный цензор К. Андреевская».
Прочитав, Артем подумал, что времена и на самом деле изменились, если за письмо с непочтительным отношением к царю велено всего-навсего «устыжать». Когда такое было? Еще несколько месяцев назад — и насиделся бы в тюрьме. Может, это и подтверждает — «признак разложения государства?»
Однако особой неуми в письме он так и не увидел. И когда пришел Гусев, чем-то довольный, оживленный, Артем спросил его об этом.
— И-ex ты! — удивился тот. — Да в том и неумь, что такое письмо по почте послал. Шифру разную придумал: тут ставь «Г», а тут «П». А в своей башке того шифру не имеет, что цензура каждую писульку разглядывает. Вот за эту, за шифру, и бить его велено.
Артем сидел на скользком, щелястом полу и обалдело смотрел на Гусева — смутно видел его в парном тумане. Тот просил:
— Плесни-ка еще ковшичек.
— Не могу, — замотал головой Артем. — Сдохнуть можно в такой жаре…
— И-ex вы, горожане… не в ладу с природой-матушкой. Я тебя почему в баню? Хворость вышибить. Вся хворость пройдет.
Он слез с полка, зачерпнул воды из кадки и плеснул на печку. Раскаленные камни будто взорвались. «Оx!» — только и мог сказать Артем, приникая лицом к полу.
— Вот то и хорошо, — нежил себя Гусев. — Похлещи-ка веничком.
Не вставая с пола, Артем стал вяло колотить веником по широкой розовой спине мужика.
— Не могу больше, — обессиленно проговорил он.
— А и не надо больше, — сказал Гусев и ринулся за дверь.
Белые клубы морозного воздуха ворвались в баню. Когда прояснилось, Артем увидел — Гусев голый катался по снегу и блаженно повизгивал. Была не была — Артем тоже выскользнул за дверь…
Никогда бы и не подумал, что снег может быть таким теплым, приятно охлаждающим тело.
— Любо-мило! — орал Гусев, барахтаясь в сугробе.
— Хорошо! — стонущим от удовольствия голосом отвечал Артем.
Когда еще раз прогрелись, оделись и вышли, уже стемнело. Слабый серп луны висел в мглистом небе. Из окон гусевского пятистенка лился желтый свет, падал нечеткими квадратами на заснеженную улицу.
— Мать! Все на стол! — объявил Гусев еще от порога. — Ох, и славно мы купались! Саженками по снегу…
— Неужто заставил выбегать на снег?! — всплеснула руками жена его, под стать мужу, плотная, белолицая, с голубыми ласковыми глазами. — Да ты, Васильич, никак сдурел! — стала отчитывать она. — Ведь он непривычный!
— А я его к матушке-природе приобщаю, — беззаботно ответит тот. — Смотри, какой румянец на щеки нагнал. Что красна девица.
Слушая их, Артем расслабленно улыбался.
Из передней комнаты, ярко освещенной нарядной, с подвесками, десятилинейной лампой, на разговор вышла Оля и вслед за ней худощавая женщина лет сорока в темном, с глухим воротом платье — заведующая школой Анна Иннокентьевна. Оля была в белой простенькой кофточке, серой, мягкой материи юбке. От школы к Гусевым она шла в валенках, а сейчас надела туфли. Мгновенный любящий взгляд на Артема — и тот совсем повеселел.
— Идите, идите к столу. Все готово, — говорила хозяйка.
Артема усадили рядом с Олей. Приятно было смотреть на нее, невзначай коснуться локтем и замечать, как румянец мгновенно вспыхивает на ее лице.
Хозяин выставил графины с домашними настойками и наливками. Была и мутноватая самогонка, после которой у Артема начался шум в голове и звон в ушах. Во всем теле он чувствовал раслабленность и не мог понять, то ли это от выпитого вина, то ли его так разморило после бани. Хозяйка сидела у тонко певшего самовара, хозяин — на другом конце стола, а напротив Артема, глаза в глаза — Анна Иннокентьевна. Временами худощавое лицо ее с крупным заостренным носом расплывалось, и тогда она казалась похожей на птицу, застывшую в задумчивости.
Артем почти не притронулся к еде, потому что не чувствовал вкуса. А стол был уставлен по военным временам богато: тут были пироги с зайчатиной и рыбой, дымился в блюде красноватый, тушенный в русской печке картофель, с жирными кусками мяса, высились Горкой разогретые на сковородке румяные блины, сочные, щедро смазанные сметаной. Он прислушивался к разговору Гусева, который говорил о нем: как он встретился с ним на базаре в Ростове, как мерз в дороге, потому что городские не считаются с матушкой-природой, а она не любит этого, — и все ждал случая, чтобы уйти, не обидев хозяев.
Такой случай наконец представился. В избу вошел болезненного вида человек в солдатской с грязными пятнами шинели, с палкой в руке, и Гусев закричал:
— А, явился, курицын сын, шифра треклятая! Я тебе сейчас покажу, где букву «Г», а где букву «И» ставить.
Пока он бушевал, Артем и Ольга оделись и вышли на улицу. Артем был благодарен Анне Иннокентьевне, которая умышленно задержалась, дала им возможность уйти двоим.
На улице Артем обнял Олю, прижался лицом — впервые за сегодняшний день они были наедине.
— Артем, да у тебя жар, — встревоженно сказала Оля. — Ты весь горишь…