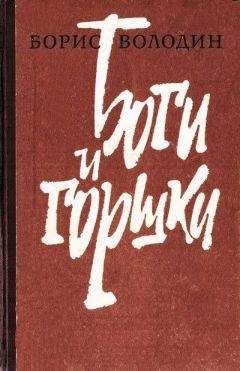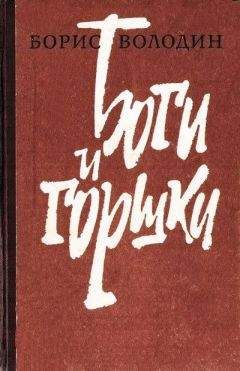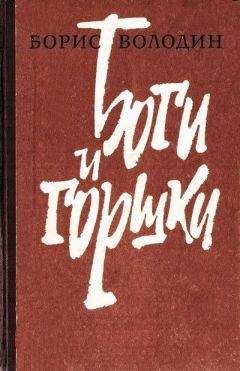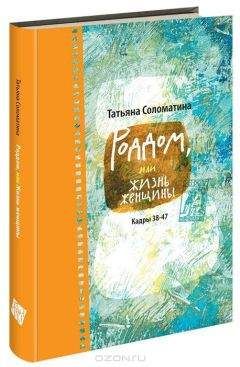— Ну вот, а еще врач, — сказала Зубова. — А наркоз дать придется. Вы же знаете, что в вашем состоянии все манипуляции только под наркозом.
— Знаю, — сказала пациентка и, протянув руку к стоявшему у ее головы наркозному аппарату, сама взяла маску и резиновые ленты, которыми маску прикрепляют к голове усыпляемого.
Вошла акушерка с большим шприцем в металлической крышке от стерилизатора. За нею, пригнувшись под дверной притолокой, — Главный. Он сразу спросил вполголоса:
— Что это у вас женщина так активно действует?
— Она врач-анестезиолог.
— Прекрасно, — сказал Главный. — И если она хороший анестезиолог, то сразу, как закончится все благополучно, мы обяжем ее перейти к нам работать. Анестезиолога у нас как раз не хватает. А сейчас по состоянию своему она от дела освобождена.
Он подошел к наркозному аппарату. Чертыхнулся тихонько, зацепив за что-то в палатных сумерках. Пристегнул пациентке маску и повернул на аппарате рычажок.
— Я даю вам кислород, коллега.
— Угу, — ответила из-под маски больная.
— Повернитесь на бок, к нам спиной… Так… Маска хорошо лежит?
— Угу, — донеслось из-под резины.
— Эфир даю. Спите.
Он подождал немного и сказал Мишиной:
— Дайте свет, пожалуйста. Просто штору отдерните пока. — Заглянул больной в лицо, приподнял веко, всмотрелся в зрачок, сказал: — Хорошо спит. Вводите магнезию… Ну, что делать будем, Дора Матвеевна?
Пациентка была под наркозом, и поэтому было не страшно, что в палате, всегда темной, сейчас настоящий день, даже с солнцем. И было не страшно, что больная побудет под наркозом несколько лишних минут. Для таких пациенток наркоз — благо. Под наркозом не случится припадка эклампсии, уже много часов грозившего незадачливой коллеге. И они переговаривались, листая историю болезни:
— Ну вот, еще одна преэклампсия на счету. Прохлопали. Извещение в горздрав послано?..
— Не наш грех, Мирон Семенович. Она не из нашей консультации.
— При чем тут это! Довести бы ее благополучно.
— По-моему, доведем. А вы разве, как уезжаете из горздрава, перестаете ощущать, что у вас есть начальство?
— Не всегда, к сожалению… Внутривенно аминазин надо было, Дора Матвеевна…
— Вены плохие. Мы после кровопускания хотели ввести, а когда выпустили триста кубиков, вена затромбировалась…
— Это не разговор для нас с вами… Не разговор.
— Нам с ней еще неизвестно сколько возиться придется. Вены беречь надо. Она еще врач ко всему. Неизвестно, какие будут сюрпризы. Сами знаете.
— Врач, а так себя запустила. Если давление не снизится, придется спинномозговую пункцию сделать. Не люблю я этого, а придется. Скажите, чтобы припасли иглу для спинномозговой… Не люблю. У меня на Урале была одна история после пункции… Да ну все это!.. Охотничьи рассказы!.. Скажите, чтобы припасли иглу… Хуже нет, чем это. Это, доктор Мишина, в старину знаете как называли? «Родимчик». Вот так вот.
— Я не знала. Я думала, родимчик — только у детей.
— Ну что вы! Это ведь о женщинах, у которых после эклампсии с инсультом были параличи, говорили: «Родимчик напал, и вот какая она стала».
— …А иглу для спинномозговой придется просить в гинекологии.
— На охоту ехать — собак кормить… Отвыкли от эклампсии.
— И слава богу.
Мишина вставила:
— На дежурстве, если все тихо, спим здесь, в этой палате. Тихо здесь. Всегда она пустая. Почти всегда.
— Лучше бы всегда. Штору закройте, пожалуйста. Кончаю наркоз. Что у вас там еще? Я ж сегодня опять поддежуриваю.
— Пока все спокойно. Ночью, наверное, все будет. Сейчас сердечницу, говорят, переведут из отделения патологии.
— Если Федорову, то мне и уйти не придется. С ней могут быть такие сюрпризы, что лучше не уходить.
— Писанины у нас груда. И операцию еще записывать. Вот Плесова придет из справочной, пообедаем и попишем. Вы мне расскажете, что было в горздраве?
— Расскажу, Дора Матвеевна… Сейчас вот больная-коллега проснется, пойдем отсюда, и расскажу, — сказал Главный.
— Я тогда взгляну на женщину, которую оперировали, — сказала Зубова.
— Хорошо. Я позову вас, когда пойду отсюда, — сказал Главный. — Она проснется сейчас.
Дора Матвеевна вышла в длинный коридор родблока и, прежде чем войти в послеоперационную палату, мучительно потянулась. Ее, кажется, снова собрался донять радикулит. И еще она проверила, не съехали ли набок швы на чулках. Такая у нее была привычка.
А Савичев опоздал, конечно, на эти Людмилины сутки. Ненамного, на полчаса, но опоздал все-таки.
Не проспал, просто опоздал из-за того, что все реакции были замедленны.
Накануне он лег спать сразу, как пришел; только надел вместо костюмных тренировочные штаны да кинул в бак для грязного белья пропотевшие за сутки, будто их в нефть макнули, носки с пятнами крови сверху.
Швырнул на ковер тахты подушку и одеяло. Лег. Услышал, как соседская Ритка пилит свою скрипку. Успел подумать, что это пиление помешает ему, и все — как провалился.
Он проснулся, когда у него свалилась подушка и коверная шерсть натерла щеку. Еще у него ноги замерзли оттого, что высунулись из-под одеяла. Судя по густой сумеречной синеве, был поздний вечер. Чучело сидел в своем кресле-кровати и делал вид, что готовит уроки. Снопик света из-под торшерного колпака падал на его второклассные книжки и тетрадки, разложенные по обеденному столу все разом, хотя нужны были одновременно всего одна книжка и одна тетрадка.
Чучело просто подражал Савичеву: если тот садился за стол со своей статистикой, то загромождал его и черновыми страницами, и карточками, и журналами, и словарями — без словаря он читать не мог, был слаб в языках.
Но Чучеловы тетради лежали на клеенке сами по себе и ручка тоже сама по себе, а хозяин их в своем кресле был устремлен в какие-то эмпиреи.
Савичев спросил сердито:
— Мечтаешь? Спать опять ляжешь неизвестно когда!
— Здрасьте, — вежливо сказал Чучело, — а я в уме считаю.
Это могло быть и неправдой, и правдой, тем более что по части счета Чучело и впрямь был мастак, и счет в уме часто возникал у него по поводу каких-то им самим изобретенных множеств — поди разбери, заданы или нет.
Савичев не ответил и выполз на кухню.
Там свет сиял вовсю, Лилька сидела у подоконника, съежившись на высоком табурете. На ней — чуть ли не на голову — было накинуто, нахлобучено ворсистое шахматное пальто — она любила все шахматное, а мерзнуть ухитрялась даже здесь, в кухне, где горели конфорки и шипели соседские сковороды.
На подоконнике лежала высокая стопа сочинений — не меньше чем два класса их писали. Лилька быстро водила по строчкам карандашом, черкала там, ставила на полях красные палки и галочки, а добежав до конца страницы, прежде чем перевернуть, всякий раз откусывала немного от полукилограммового куска вареной колбасы, который держала в левой руке. Полукилограммовый кусок колбасы обозначал, что Лилька закатила себе мясной разгрузочный день и с утра по сию пору не ела, — она была помешана на разгрузках.
Савичев хотел Лильку обнять, но она сделала страшные глаза и скосила эти страшные глаза на соседку, обваливавшую в муке котлеты. Он все равно поцеловал Лильку, залпом опорожнил из горлышка литровую бутылку ледяного молока и снова пошел ложиться, но через полчаса Лилька его разбудила, потому что она кончила ставить свои палки и галки и надо было ехать к Лилькиному брату-адвокату на день рождения.
Лилька еле-еле разбудила его, а Чучело смотрел с интересом, как мать расталкивает дядю Сергея, и хитрит, и пускает в ход уже не действующий прием, говоря ему в ухо:
— Сергей Андреевич, вас — в родильное!
А он, оказывается, отвечал во сне:
— Не морочь голову. Я знаю, что это ты говоришь…
Когда Савичев работал на сорок девятом километре — в первые месяцы их с Лилькой жизни, — единственное, что его будило, был стук в окно и санитаркин голос:
— Сергей Андреевич, вас в родильное! (Или — в хирургическое!)
И всякий раз, когда его так будили на сорок девятом, а теперь здесь, на дежурстве в роддоме, Савичев вскакивал мгновенно. Но дома — если не было настоящей тревоги — он лежал как камень, и даже когда однажды ночью Лильке было худо, она его не добудилась.
А вообще умение спать было развито у Савичева до степени искусства, которое он мог являть в любых условиях и положениях, как он сам говорил, — даже находясь под углом в сорок пять градусов к горизонту.
В годы учебы на каникулы и на праздники он ездил к покойному теперь деду, и конечно же ездил в бесплацкартных вагонах, и приходил на вокзал не к подаче поезда, а к середине посадки. Верхние полки все бывали уже захвачены, да Савичев не видел нужды тратиться на их захват. Третьи — багажные — полки он не любил. Там под вагонным потолком стояла жара и вся поднимавшаяся снизу духотища. А Савичеву достаточно было сидячего места — лишь бы оно было в купе, а не боковое, на ходу. У него быстро выработалось знание оптимального времени, в которое надо приходить к поезду, чтобы были не заняты еще все именно такие сидячие местечки — в купе, а не на ходу. Если не на ходу, он уже был кум королю. И сидячее место имело еще одно достоинство, весьма важное при поездках к деду. В Москве Савичев тщательно наутюживался. Он и наутюживался-то обычно, именно когда ездил к деду. И раз ехал сидя, то почти полностью сохранял все плоды своих стараний. Он усаживался, ставил на попа свой чемодан; когда поезд трогался и вагон угомонялся, клал на чемодан руки, на руки шапку, на шапку голову и просыпался ровно за полчаса до того, как поезд должен был прийти в Шую, — успевал еще ополоснуться в вагонном туалете, чтоб не являться к деду с мятой рожей. Сам дед никогда и не перед кем не являлся в непорядке: даже к Савичеву выходил в непременном галстуке и при тщательно расчесанных усах, — великим знаком интимной вольности могло быть, что он без пиджака, в домашней куртке.