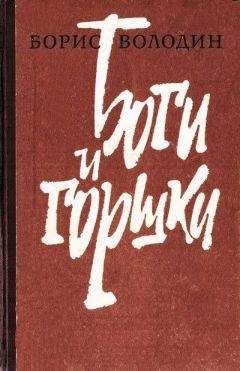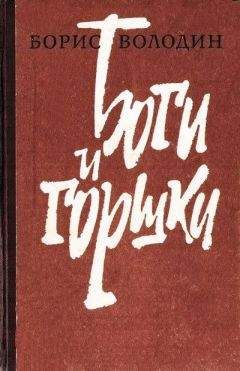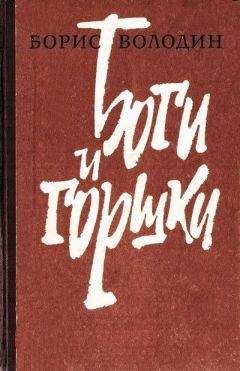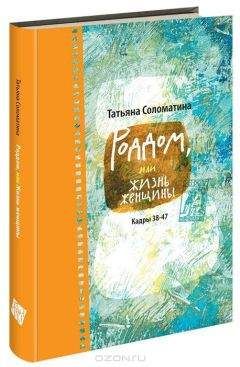Сначала он опаздывал только к приему дежурства, полагавшемуся за полчаса до начала общего рабочего дня. Он опаздывал на десять минут, и это было, в общем, не так уж страшно.
Но на автобусной остановке, к которой он бежал, шлепая по талому снегу, стоял длинный хвост. У Савичева был прием на такой случай: он становился в стороночке, будто ему не к спеху, и, когда открывалась передняя дверь, быстро ее прихватывал, чтобы втиснуться сразу, как выйдет последний из выходящих. Если шофер попадался не вредный и не начинал требовать в микрофон, чтоб нарушитель вышел и в следующий раз садился только в заднюю дверь, Савичеву удавалось выгадать пару-другую минут. Водители на линии работали почти все одни и те же: вредных Савичев знал уже в лицо.
Только не он один додумался до такого приема. И вообще люди любой опыт быстро перенимают. Сегодня автобусов было отчего-то меньше. Прием не удался. И было много, как он, нацеливавшихся на переднюю дверь хитрецов. К тому же две или три машины подряд переполненные: в каждой двери зажаты хвосты пальто — проскочили мимо остановки и высадили пассажиров в стороне от нее.
Приметив это, Савичев прошел вперед от остановки метров пятнадцать, и как раз близ него шофер еще одного автобуса выпустил пассажиров и оказался не вредный, и Савичев втиснулся в переднюю дверь.
Он выскочил на маленькой площади. Он не смотрел на свои часы — смысла все равно не было. Отсюда до роддома было с полкилометра. Можно пробежать по слякоти, можно проехать на другом автобусе. На той стороне площади вдоль чугунной решетки сада соседней больницы шли торопливо три врачихи роддомовской консультации, и Савичев решил ехать автобусом: когда опаздываешь, пусть лучше видит тебя меньшее число глаз. Но он потерял еще пять минут. И еле втиснулся. И выскочил из дверцы все равно перед самыми врачихами, а переодеваться ему надо было капитально, в миткалевые штаны, предназначенные для операций, — не как им, только в халат.
Он бежал к воротам и перед ним — среди сосен — роддом был как пятипалубный корабль среди парусников в порту. Савичеву всегда роддом виделся как корабль. Особенно когда он ночью выходил проветриться на минуту, если на дежурстве было все тихо, или когда бежал сюда ночью, если вызывали.
Особенно похожим на корабль роддом казался, конечно, не ночами, а вечерами, когда был весь в электричестве. Впрочем, ночью и на кораблях тоже света меньше. И здесь тоже между половиной первого и шестью, после того как детские сестры унесут малышню от мамаш с последнего по расписанию кормления, в окнах холлов первого, третьего, четвертого этажей, выходящих на фасадную часть, горит только малый свет, а самая верхняя, пятая палуба — там кухня — темна. И ни искорки внизу, в носовой части, где консультация, амбулаторный прием и так же темно в корме, где справочная и прием передач от счастливых отцов, и не от счастливых, и не от отцов.
И только всегда яркий свет на втором этаже, в центральной части. Там, где родовой блок, где самое важное происходит.
И под ним — где приемное…
И когда Савичев влетел, запыхавшись, в родблок, то услышал, что дела сейчас делаются в малой операционной. И не малые, текущие дела, а большие, всегда тревожные. Там, в операционной, были голоса дежурившей ночью Доры Матвеевны и Нины Сергеевны, их профессора, — а в это время, если все спокойно, им бы надо было быть на конференции. И слышался голос рыженькой Томы, операционной сестры, с которой он любил дежурить, — опять их смены совпали. И санитарка гремела тазом.
Он вошел в операционную, и оказалось, что савичевское время все еще шло медленнее общего. Он думал, что сейчас без пяти девять, а часы над умывальниками показывали 9.05.
Дора Матвеевна мыла руки щеткой под краном. Санитарка покачивала в руках полыхающий синим спиртовым пламенем таз, чтобы обжечь равномерно всю его эмалированную внутренность.
И сипел тихо наркозный аппарат. Женщина, лежавшая на столе, еще не совсем спала: что-то бормотала из-под маски.
— Где шляешься? — Зубова свирепо сверкнула над маской глазами, но вопрос ответа не требовал. — Я же сразу сказала тебе, чтоб никуда не уходил из родблока!.. Мойся!
Савичев напялил марлевую маску и сунул руки под кран. Зубова при начальстве никогда не ругала за опоздания. Она ругала потом, наедине, и только если это было ей нужно.
— Что будем делать? — спросил он вполголоса.
— Щипцы. Это — та женщина с преэклампсией, — сказала Дора Матвеевна и закрыла локтем свой кран.
Она спросила, не опуская мокрых рук — не вытерев, все их держат так, будто сдаются, чтобы капли не стекали с предплечий к ладоням — ведь ладони после мытья стерильны, нельзя, чтоб на них стекало с менее чистой кожи, — она спросила:
— Нина Сергеевна, может, вы с Сергеем Андреевичем вдвоем управитесь? Я боюсь, как там без меня девочки доложат вчерашнее кесарево.
— Конечно, Дора Матвеевна, какие могут быть разговоры!.. Сергей Андреевич, ты что там купанье разводишь? Тут еще и сердцебиение у плода дрянь. Спирт на руки — и давай!..
…Вот оно — полмесяца было тихо, а теперь полоса такая пошла: на тех савичевских сутках тридцать родов, двое щипцов и кровотечение. На предыдущих — не успели начать — привезли эту женщину с Арбата с преэклампсией, и было кесарево, и невесть еще что было.
И теперь — то же: не успел войти — давай!
Полоса пошла.
1967