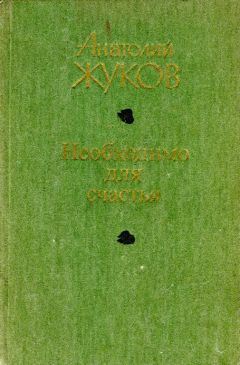Буран и Злодей вылизали мои ладони дочиста, а потом, когда я мазал им холки, они обнюхали и заслюнявили весь карман, откуда я доставал овес. Умные стали, умные и смирные до слез. Они напились из кадки теплой воды и покорно пошли рядом на залог, куда я отгонял их каждый вечер.
Ножиком и стекляшкой я стал шлифовать топорные выемки ярма. Надо сразу было сделать, не сбил бы холки. О машине мечтаю, Пашку ругаю, а сам додуматься не мог, на деда Кузьму понадеялся. А ему тыща лет, спасибо, топором-то хоть успевает. Надпись вот успел, старый хрен, не забыл — «Зделано в СССР». Если так делать, никогда фашистов не расколотим.
IV
Комбайны, опорожнив бункеры наполовину, двинулись дальше по загонке, а я никак не мог выехать на полевую магистраль: земля на жниве мягкая, колеса тонут в ней на четверть, в бестарке почти полтора кубометра зерна — тонна с гаком, шестьдесят пудов, не считая гака.
Я ругался с комбайнерками, не хотел столько нагружать, но бабы огрызались сердито, отчаянно: их тоже подгоняли, пугали дождями и гибелью урожая, обещали премию натурой — двадцать пять пудов хлеба, если дадут по две сезонных нормы.
Буран и Злодей стояли на коленях в ярме, нюхали жниву, отдыхали. Я раздевался перед ними: снял рубаху и заправил ее под ярмо Злодею, потом снял штаны, чтобы спасти холку Бурана. Везти полную бестарку жнивой им было не под силу, они тянули ее рывками, падая на колени. Выгнут хребты дугой, напружатся, а потом грохнутся разом на колени и, сорвав бестарку с места, вскакивают, волокут метров десять. Потом опять падают. Сейчас они упали в изнеможении и не встанут, пока не покажешь кнут.
— Поднимайтесь, хватит! — Я стоял перед ними голый, с одним кнутом. — Долго простоите, опоздаем на разгрузку, галопом погоню тогда. Ну! — Я хлопнул кнутом по жниве.
Волы встали, осторожно натянули ярмо: проверяли, что это положил я им на шеи. Видно, им понравилась мягкость одежи, потому что едва я взялся за налыгу, они дружно рванули и пошли за мной, часто-часто перебирая ногами в мелком торопливом шагу.
Магистраль была потверже, а потом мы выбрались на укатанный проселок, по одну сторону которого паслись на залоге жеребята под присмотром Мустафы. Мустафа увидел, что я нагишом, и подошел узнать, не случилось ли чего. Увидев, что я вынимаю свою одежу из-под ярма, похвалил:
— Якши, малай, хорошо. — И съел черную ягоду паслена из пилотки, которую держал в руке. Полная пилотка у него была этих ягод. — Хочешь?
Он дал мне целую горсть и, сказав опять «якши, малай», ушел к своим жеребятам. Только о еде думает и о работе. На прошлой неделе, когда я гнал волов галопом и гудел, подражая машине, он остановил меня и отхлестал кнутом за безжалостность. Даже сейчас на заду рубец от его кнута — жалостливый!
На полевом току я встретил Пашку, который разгуливал среди баб в ожидании погрузки.
— Человек создал рабочих волов, и это было хорошо! — сказал он торжественно и заржал. — Ну, поедем наперегонки? Колечки я сменил, карбюратор новенький, не переливает… Ну?
Пашка форсил перед бабами и девчатами, работавшими на току, мало ему одной Клавки. Заложил руки за спину и шкандыбает, как подбитый петух, припадая на правую ногу, — рубль-пять, рубль-пять! Бабы нагружают его полуторку, а он, толсторожий бугай, прохлаждается: как же — водитель, ему грузить не положено! Хромой черт!
На Пашку я злился не напрасно. Вторую неделю я возил зерно от комбайнов и вторую неделю не мог прокатиться на его настоящей машине. Теорию я прочитал давно, ничего хитрого там нет, почти как трактор, можно бы практиковаться, но Пашка не доверял мне руля. В кабинку пускал на время погрузки, и я делал там все, что хотел, а в последние дни, когда увидел, что я готовлюсь к самостоятельному выезду, запретил даже близко подходить к машине. А ведь обещал! Зачем же трепать языком попусту?
Обычно Пашка, подогнав машину к вороху, бежал либо на кухню, либо поиграть с солдатками. Мотор иногда не выключал. В такое время только бы в кабинку проскользнуть незамеченным, и проскользнуть до того, как начнут погрузку. Потом уж ни Пашка, ни сам господь бог не остановят.
Свой план я привел в действие на другой день к вечеру, когда по настоянию Клавки, которая собралась в город за лекарствами, Пашка решил сделать третий рейс. О возможной неудаче как-то не думалось. Ведь я же знаю теорию, умею переключать передачи, чего же еще!
Но смирная полуторка вдруг превратилась в норовистого необученного быка. Она не слушалась моих рук, петляла по жнивью, выскакивала на проселок, опять бросалась в поле; я слышал за собой испуганный крик Пашки, прыгавшего следом, но остановиться уже не мог.
Руки у меня дрожали, я весь вспотел и старался добиться только одного — не съезжать с дороги. Если я выправлю и удержу машину, то доеду до самого отделения — четыре километра самостоятельного пути — и поверну обратно: еще четыре! Надо глядеть на дорогу, только на дорогу, а передачи переключать не глядя, ощупью. Ведь рычаг рядом, под рукой. И главное — не теряться: это ведь такой же бык, только совсем слепой, глухой и глупый.
Машина понемногу привыкала ко мне, успокаивалась, хотя за четыре километра совхозного проселка я разогнал все подводы, грузовики, возвращавшиеся с элеватора, и пешеходов. Они уступали мне дорогу с большим проворством и орали так, будто свет клином сошелся на этом проселке и больше им негде ехать.
Возвращаясь обратно, я все-таки понял, что свалял дурака и за это нет мне прощенья.
Посреди дороги у въезда на ток стоял свирепый Пашка с моим кнутом (не надо было оставлять его на бестарке!) и загораживал мне путь. Но полуторка уже слушалась меня, я лихо объехал Пашку и остановился у дальнего вороха. Убежать, однако, не успел. Пашка всыпал мне крепко, потому, наверно, что я дерзнул сравниться с ним, не остановился по первому требованию и хотел убежать от справедливого наказания. А может быть, потому, что здесь был Николай Иванович, его соперник, который мне благоволил, и Пашка хотел пофорсить перед Клавкой, показать, что он его не боится.
Николай Иванович вырвал у него кнут здоровой рукой, а искалеченной, с мертвым костяным кулаком, ударил наотмашь по лицу. Пашка попятился и сел на кучу зерновых отходов. Клавка, растолкав гомонящих баб, с криком бросилась к нам.
— Заело! — хрипел Пашка. — За Клавку отомстить вздумал!
Но Николай Иванович уже не обращал внимания ни на него, ни на Клавку. Он повернулся ко мне, отдал кнут и погладил меня по голове.
— Эх ты! — сказал он с жалостью. — Не утерпел, познал вкус до время. Тебе ведь еще труднее теперь будет на быках-то!..
И Злодей с Бураном жалели меня. Они стояли в тенечке у шалаша и видели, как Пашка хлестал меня моим же кнутом. Будь на их месте люди, они радовались бы возмездию, а быки вздрагивали при каждом ударе — у них ведь не было разума, рефлекс откликался. Но это был добрый рефлекс, потому что, когда я подошел к волам, Буран стал беспокойно обнюхивать меня, а ласковый Злодей дважды лизнул в щеку.
Николаю Ивановичу, который шел за мной, я сказал, что труднее мне теперь не будет. Я уже подержал свою мечту за хвост и знаю, что никуда она от меня не уйдет, можно не торопиться.
— Дай бог, дай бог! — сказал он с большим сомнением.
Напрасно сомневается, о себе бы лучше подумал. Клавка вон стоит, глядит на них, то на одного, то на другого, и плачет. Один дурак, другой на разговоры лишь мастер. Наверно, не заметили даже, что она только для них нарядилась в цветной сарафан и шелковую косынку. У нее ведь не одни рефлексы, но и разум есть, а Пашка ей соломы привез, в город хочет взять…
Я помазал солидолом воловьи спины, помазал свои ноги, потрескавшиеся от цыпок и исхлестанные Пашкой, влез на передок бестарки, и послушные, понятливые волы тронулись. Они шли неспешно к полевой магистрали, помахивали хвостами, а Пашка, недозвавшись Клавки, стоял у своей полуторки и ругался нам вслед.
— Щенок сопливый! Паразит! — кричал он. — И ведь надпись, сволочь, сделал: «Не уверен — не обгоняй!» Вот парразит!
Пусть лается, все равно он нас не обгонит. Вчера я подсчитал, что если он будет делать даже по три рейса в «Заготзерно», то даст 180 тонно-километров, а я на своих «Му-2» даю пятнадцать, но это в два раза больше, если сравнить мощность машины и волов в переводе на лошадиные силы. И я не ошибаюсь, потому что, по той же теории, КПД двигателей внутреннего сгорания только 25—27 процентов, четверть всей мощности. Куда же им до живой тягловой силы, до нас! Буран и Злодей падают на колени, чтобы тянуть тонну зерна по жнивью, — тут КПД, наверно, 200 процентов, потому что они всю силу вкладывают да еще, бросаясь на колени, прибавляют вес тела к этой всей силе. Машина закопалась бы в землю или взорвалась от такой нагрузки, а им хоть бы что: идут и не торопятся.
И не надо им торопиться. Пусть машины их догоняют со своим фиговым КПД — они железные, ни рефлексов у них, ни сознательности. Я только что убедился в этом: забыл переключить скорость полуторки на подъеме, и уже поршневые пальчики застучали — нагрузка, видите ли, выше дозволенной, тяжело, она не любит этого. Цаца какая! Будто Клавка Хребтюгина — потерпеть не может, трудно ей. А другим легче, что ли! Николай Иванович только виду не подавал, крепился, а сам весь бледный был, когда со мной разговаривал. Всем трудно.