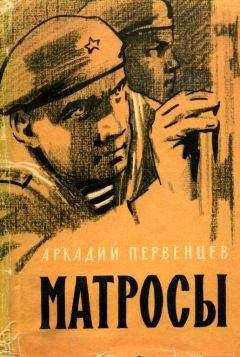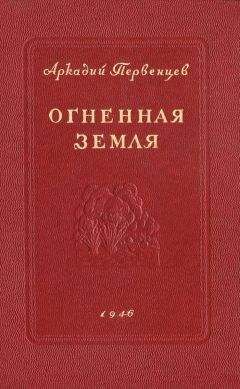…На другой день Петр добрался до Севастополя. Попутный шофер сообщил ему новости, не отрываясь от баранки и ни разу не сбавляя скорости на самых крутых участках шоссе.
— Нет, нет, старшина. В который раз тебе говорю — «Истомин» цел и невредим. Кусочка клотика не откололо. Старика рвануло. Понимаешь? Мина. Залежалась, что ли, в грунте и вот нашла время. В два часа ночи…
— Брат на «Истомине» служит, — допытывался Петр, — если у «Истомина» куска от клотика не оторвало, тогда почему тяжелое ранение?
— Не знаю. Кореш твой все тебе расскажет. Когда это произошло, я был на горе Матюшенко. Ночевал там у одной зазнобушки… Гору тряхнуло. Думал, шандарахнули ракетой милитаристы. Еле в штанины ногами попал, выскочил, конечно, и со всем народом — к бухте. Равнодушных не было… Стоял еще на плаву, на бочках. Прожекторы его взяли в лапы, как на картинке стоил. А возле него барказы, катера, шлюпки. На спасение пришли…
— Ага! — наконец то догадался Петр. — Братишка тоже пошел на барказе…
— Вот и пришли к общему знаменателю… Вероятно, так… Я тебя доставлю поближе к пирсу. Говоришь, твой друг на Северной живет? На какой улице?.. Леваневского?.. Знаю. Прямо от пирса, от катерного, вверх. Там у меня приятель, вместе в десанте были, на Эльтигене. Про Сашку Довганя слыхал?
— Нет, не слыхал. — Петр думал о своем и заранее пытался представить себе размеры несчастья. Ясно: вначале, для полной информации, нужно добраться до Карпухина.. Его не будет, жена дома.
С нарастающим чувством гордости всматривался Петр в удивительно преобразившийся город. Будто на дрожжах, выросли кварталы, скверы… Сверкали провода, отшлифованные блоками троллейбусов. Журавлями поднимались строительные краны. Неувядающее царство Гаврилы Ивановича расширялось в границах, занимало высоту за высотой, распространялось и к Сапун-горе, и к Херсонесу. Не смог одолеть горы немецкий фельдмаршал, приходивший сюда со своим полумиллионным табором. Несколько строительных бригад, подобных чумаковской и хариохинской, оказались сильнее дивизий с тяжелыми пушками, притянутыми к севастопольскому обводу из Центральной Европы. Может быть, наступит время, когда инструменту каменщика станут петь больше песен, чем жезлу маршала, и рабочий фартук займет место в музеях наравне с клинками, винтовками и осколками снарядов.
— Гляди! — указал шофер, отрывая руку от рулевого управления.
На том месте, где обычно в своей грозной позе стоял корабль с тяжелыми стволами главных калибров, с ежовой порослью зениток-автоматов, с мачтами, усыпанными антеннами локаторов и радиошупальцами, виднелось высокое, грязное днище. Его теперь не нужно скоблить, красить, отдирать от киля водоросли и ракушки.
Черный буксир, небольшое судно, не выходившее за пределы бухт, густо дымил возле кормы, похожей на хвостовые плавники какого-то большого морского животного, приволоченного сюда для разделки туши. Барказы вокруг напоминали птиц, слетевшихся к добыче. Искрилось мертвое пламя автогенов.
— Вырезывают отдушины, — шофер намертво стиснул челюсти и после паузы продолжал: — Тут что было! Если бы только женский плач спрессовать в шашки, можно бы еще таких пять штук взорвать… Я тут приторможу, прыгай! Знаешь, куда к причалу? Да знаешь, конечно! Деньги убери, братишка. Прежде всего мы с тобой, насколько я тебя правильно понял, коллеги, — и как бывшие моряки, и как шоферня.
На переправе молча брали билеты, не спеша двигались по сходням, садились, устраивались на правом борту, чтобы лучше рассмотреть бухту. Не слышалось пустых разговоров. Издалека он заметил «Истомина» и не удивился изменениям на нем. В письмах Василия крылись доступные для понимания намеки.
Глядя в ту сторону, куда глядели все, Петр думал о ребятах, служивших на погибшем корабле. Кое-кого припоминал по фамилиям и именам, кое-кто возникал как в тумане, и не хотелось прояснять очертания — пусть такими и останутся. Кто-то из них жив, кого-то поглотило море…
Не дожидаясь, пока заведут швартовы, Архипенко выпрыгнул из катера, прошел по недавно отстроенному пирсу и, никого не расспрашивая, поднялся по расковырянному оврагу с незаконченной дорогой. Он легко отыскал улицу Леваневского и жилище Карпухина. Вилась тропка, промятая пешеходами по обочине спуска. Лесенка в четыре ступени кончалась площадкой с железными решетками, а калитка вела в огороженное диким камнем подворье, распланированное колышками для будущего сада. Судя по всему, на участке работали заботливые руки человека, «зараженного частнособственническими инстинктами», как выразился бы Латышев.
Старый штамбовый виноград с его шершавыми светло-коричневыми узлищами коренных стволов оплетал беседку и вход в домик под черепичной крышей. Закрытые наглухо ставни выкрашены шаровой краской, а водоразборная колонка и всякие мудрые возле нее приспособления взяты под стойкий кузбасский лак. Более веских характеристик хозяина-моряка не требовалось. Маленький мирок как-то не связывался с образом старого друга. Не замечалось в нем раньше хозяйственных способностей, не травил он себя скопидомством и не заглядывал далеко в будущее. Корабль терпел как необходимость, землю отрицал, не ожидая от нее ничего хорошего для себя. В Карпухине крепко жил разочарованный колхозник. И ныне, глядя на ухоженную за осень почву, на следы кропотливого труда хозяина — даже бассейн смастерил для поливки, — Петр с горьким чувством удовлетворения еще раз ощутил таинственную власть земли.
— Вам кого, гражданин?
Голос заставил Петра повернуться к крыльцу, на котором показалась женщина с литыми формами крепкого здорового тела. Рядом с ней стояла курчавая девочка лет пяти.
— Мне гражданина Карпухина, — в тон хозяйке дома ответил Архипенко, не выпуская из рук чемодана и подарочного кавуна в авоське.
— Заходите. — Женщина приветливо улыбнулась и, посторонившись, пропустила его в сени. — Вы Петя Архипенко?
— Как узнали? — Петр осматривался в низенькой комнате, убранной дешевыми ковриками; у стен были расставлены стулья.
— По арбузу, — с приятностью ответила женщина. — Ждал он друга с Кубани. А где арбузы, как не на Кубани?..
— Примета верная, — согласился Петр, — только освободите меня от нее. Намучился я. Сетку пришлось в Симферополе купить, а то выскальзывала примета из рук, как живая… Как ваше имя, извините?
— Серафима, — весело ответила женщина и, поблагодарив за подарок, ушла, чтобы вернуться в новом платье, еще больше подчеркивающем зрелую красоту ее тела.
«Полностью во вкусе Карпухина, — подумал Петр, довольный выбором своего друга. — Такая ему и мерещилась. С такой нарадуется за всю свою черную кочегарскую жизнь».
Казалось бы, в комнате полный порядок, прямо-таки корабельный, а не сидится Серафиме — там приберет, там пыль смахнет; даже пальцем по стеклу провела и — с тряпочкой.
Движения у нее ловкие, быстрые. Рыжеватые волосы свободно падали на меднисто-смуглые плечи, сочные губы лукаво кривились в какой-то тайной улыбке. Брови черные, как у гречанки, а глаза теплые, серые, русские. Она деликатно, без всяких ужимок и оханий успокоила Петра, рассказав все ей известное о Василии. Он попал в катастрофу уже после взрыва, когда неожиданно корабль перевернулся и захватил часть барказов, подошедших к нему с аварийными командами. Состояние брата тяжелое, но не безнадежное.
Будто невзначай, Серафима намекнула на дружбу Василия с Галочкой Чумаковой; узнав о несчастье, она еще вчера прилетела из Одессы, где учится.
— Пробивалась в госпиталь, не знаю, пустили ли ее. Туда трудно пробиться. Не знаю, разрешат ли вам свидание. А вы Катю Чумакову помните? — Серафима все же не сдержала женского любопытства и вызвала краску на лице бывшего старшины. — Катя прекрасно живет с новым мужем, истоминским штурманом Вадиком Соколовым. Ребенок остался при ней, не отдала. Прежний ее офицерик измотался по ресторанам, видела его: взъерошенный, как осенний грач. После списания подался в торговый, на малый каботаж, и там не прижился…
Казалось, из какого-то глухого далекого прошлого возникали имена, и каждое из них приносило с собой рой воспоминаний, тревожных и ненужных, и ни в одном из них не было прежней сладости, а только тоска и цепкий страх. И все же хотелось слушать этот густой женский голос, возвращаться вместе с ним в прошлое, заполнять пустоты памяти, страдать… Чертовски нескладно устроен человек! Непонятно, куда его тянет, почему иногда страдания становятся значительней радостей, а горечь укрепляет силы.
— Я, наверное, пойду, Серафима. Карпуху не дождешься…
— Куда же вы пойдете, Петя? Он должен быть с минуты на минуту. Вероятно, что-то важное задержало. Теперь его отпускают ночевать. Возвращается к подъему флага.
— Тогда, пожалуй, подожду. Спасибо за угощение.