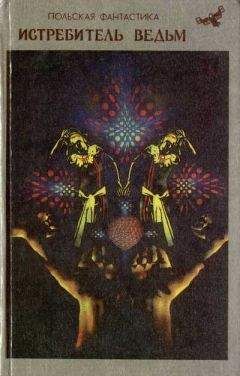— Но ты пойми меня, Нина!
Он схватил ее руку и начал целовать.
— Ладно, без этого! — сказала она, отдернув руку.
Он съежился, точно от удара.
И показался ей таким жалким, таким одиноким. Снова появилась жалость к нему.
Когда они, оставив лошадь на конном дворе, молча шли по деревянному тротуару односторонней улицы Чаруса, он тихо, покорно спросил:
— Ты прощаешь меня, Нина?
— Надо подумать, Николай! — так же тихо ответила она.
Подошли к медпункту. Остановившись у крыльца с досчатыми резными перильцами, Нина Андреевна задумалась, еще раз окинула взглядом мужа и сказала:
— Здесь я живу с девочками. Тут у меня медпункт и квартира. Через два дома — детский сад. Соня и Рита сейчас там. Они ждут меня.
— Разреши мне войти, Нина!
— Нет, Николай! Ты мог это сделать раньше. Мог зайти без спроса. А теперь нельзя.
— Но ведь я даю тебе честное слово!
— Этого мало, нужно дело.
Она вставила ключ в замочную скважину и открыла дверь.
— А мне как быть? Что делать? — растерянно спросил Николай Георгиевич.
— Решай сам. Не маленький.
И ушла.
В тот вечер Николая Георгиевича вызвал к себе в кабинет директор леспромхоза Черемных. На улице было уже совсем темно. Поселок спал, лишь в некоторых окнах конторы светились яркие электрические огни. В коридоре Багрянцев встретился с Ошурковым. Начальник лесоучастка только что вышел от Якова Тимофеевича: без фуражки, пунцово-красный, с вытаращенными глазами; на лбу и на висках блестели крупные капли пота.
— И тебя вызвали? — схватив за руку Николая Георгиевича, сказал Ошурков. — Ну, берегись, Колька! Вот мылили шею! Хмель как рукой сняло…
И дохнул спиртным перегаром в лицо Багрянцеву.
— Выпутывайся, Колька, как знаешь, только не выдавай, что пьем вместе. Кто-то накапал про нас директору. Он и замполит взяли меня под перекрестный огонь, думал, живой не уйду: измелют. Директор рубит сплеча, по-рабочему, а этот замполит мягко стелет, да жестко спать: подо все у него политическая подкладочка… Фу, жарко!
Он достал из кармана огромный серый платок и тщательно вытер лоб, виски, шею. Потом продолжал:
— Как кончится головомойка, приходи прямо к старухе. Отдохнем за «лесной сказкой». Я велел старухе приберечь для нас. Да ты что, Колька, приуныл? Не трусь, до самой смерти ничего не будет! Что молчишь-то? И с работы снимут, так не велика беда. Сегодня снимут, а завтра снова поставят. Опытные люди тут на вес золота. А пить — кто не пьет? Курица и та пьет.
Из кабинета выглянул замполит Зырянов.
— Заходите, товарищ Багрянцев. Ждем.
Ошурков поспешил удалиться, шепнув Николаю Георгиевичу:
— Ну, счастливо, Колька! Не робей.
Багрянцев вошел в кабинет. Директор кивнул на стул между столом и кушеткой.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал он. — Извините, что поздно побеспокоили. О серьезных делах лучше толковать, когда уляжется дневная суета.
Николай Георгиевич продолжал стоять навытяжку, по-военному притиснув к карману брюк фуражку.
— Ну, садитесь! — мягко, почти дружески сказал Зырянов. — Ведь не с рапортом пришли.
Багрянцев сел. Но и сидеть продолжал навытяжку.
— Мы вот здесь только что ругали Ошуркова, — начал Черемных. — Пьяница известный. Я еще лесорубом работал под его началом. И тогда от него за версту разило самогоном. Меняются времена, меняются люди, а вот в характере Степана Кузьмича — ничего нового. Горбатого, видно, могила исправит. Посылая вас к Ошуркову, мы думали, что вы станете влиять на него, подскажете ему, исходя из своего горького опыта, к чему может привести злоупотребление спиртными напитками. Так ведь, Борис Лаврович?
— Совершенно верно, — согласился Зырянов.
— Однако наши расчеты не оправдались, — продолжал директор. — Первое время мы следили за вашей работой, радовались, когда участок был выведен из прорыва и пошел в гору. Стали поощрять эти успехи. Тогда, когда речь шла, кому вручить знамя, у нас было два кандидата: Моховое и Томилки. У коллектива углевыжигательных печей больше было данных на получение знамени, а мы его все же на Моховое отдали. Думали, дальше пойдет все как по маслу, но ошиблись. Теперь вот надо исправлять дело.
— Переведите меня на другой участок, — сказал Багрянцев. — Я не пожалею сил и докажу, что умею работать.
Зырянов повернулся к Багрянцеву.
— Дело не только в работе, Николай Георгиевич. Работать у нас многие умеют. И Ошурков, когда он в полном порядке, неплохо везет участок. Но этого мало. Нужны хорошие руководители. Нужно не только рубить и вывозить лес, выполнять план, но и воспитывать людей. Ведь у нас есть лодыри, есть даже воры. Таких людей тоже со счета не скинешь? Они живут среди нас, они тормозят движение вперед. А как мы будем воспитывать людей, если сами порой оказываемся не на высоте. Вы понимаете это, товарищ Багрянцев?
— Вполне.
— Да, положенье ваше незавидное, товарищ Багрянцев! — сказал Черемных, мусоля в пальцах карандаш.
— «Незавидное»! — перебил Зырянов. — Это не точно, очень мягко сказано.
Он встал, прошелся по комнате.
— Как можно человеку, состоявшему в партии, посланному сюда на исправление, упасть так низко? Это же, это же, не знаю, как назвать…
Борис Лаврович подошел к столу и начал наливать воду в стакан. На секунду водворилась тишина, нарушаемая лишь бульканьем воды.
— Не горячитесь, Борис Лаврович, — примиряюще сказал Яков Тимофеевич и обратился к Багрянцеву. — Вашу просьбу удовлетворим. У нас есть намерение вернуть вас на Чарусский лесоучасток. Тут за озером мы создаем новые лесосеки, и нам нужен мастер. Согласны перебраться в Чарус?
— Да, конечно, конечно. Буду очень благодарен.
Выйдя из конторы, Багрянцев задумался, куда пойти. В избушку к старухе, где сидит и ждет его Ошурков? Только покажешься на пороге, начальник Мохового лесоучастка прикажет старухе ставить на стол спирт, яичницу. И тогда снова все пойдет на старый лад. Лупоглазый, губастый Степан Кузьмич полезет целоваться, станет называть тебя закадычным другом. Даже всплакнет от избытка чувств.
Николай Георгиевич передернул плечами, точно ежась от холода. Всматриваясь в темную даль, он отчетливо представил себе ярко освещенную избушку на два окна, стоявшую в конце поселка. Окна занавешены, но свет пробивается на улицу, падает в палисадник, где вместо цветов растет на грядке лук. В избушке топится очаг, от него жарко, как в баньке. И вот здесь-то Ошурков прожигает свою жизнь.
«Нет, нет, с этим надо кончать!» — Николай Георгиевич смотрит на домик медпункта. В нем во всех окнах горит свет, желтые полосы лежат на изумрудной траве, сбегают по тропинке к канаве, через которую проложен мостик.
Багрянцев с напряжением смотрит на окна. Но домик медпункта кажется нежилым: никто не скрипнет дверью, не мелькнет в окне. Нина Андреевна с детьми, наверно, спокойно спит и не думает о нем. А что, если пойти еще раз попросить у жены прощение? Может быть, помирится? Только навряд ли. Не такой у нее характер. Бывало и раньше, чуть провинишься, так ходишь перед нею на цыпочках, упрашиваешь, уговариваешь и не скоро дождешься, пока она улыбнется тебе… Но куда же пойти, где ночевать? Ведь не на улице же?
И вдруг откуда-то непрошеная возникла мысль: «Иди на Моховое. Там тебя примут, приютят». И кто-то будто даже взял его под руку, повел. Сделав несколько шагов, Багрянцев остановился, словно от кого-то невидимого отмахнулся, повернул обратно.
«Пойду к Шайдурову, — сказал он себе. — Иван Александрович примет, не откажет».
Огня в доме Шайдуровых уже не было. Николай Георгиевич легонько постучал в окно. Распахнулись створки. В темноте показалось бородатое лицо хозяина.
— Кто здесь? — спросил старый лесоруб.
— Это я, Багрянцев. Пустите ночевать.
В доме тотчас же вспыхнул свет. И когда вошел в помещение, жена Шайдурова уже хлопотала возле печки, наливая воду в самовар.
Иван Александрович был рад гостю.
— Давно мы не виделись, — заговорил Шайдуров, присаживаясь возле стола. — Давай покалякаем.
Заметив, что Багрянцев чем-то расстроен, Иван Александрович сказал жене:
— Давай-ка, мать, поторапливай самовар. Да пошарь в залавке, нет ли там у тебя в бутылке «святой водички».
— Я не могу пить, — сказал Багрянцев.
— Вот те на! С каких это пор? Я слышал, вы там, на Моховом, с Ошурковым…
— Я решил больше не пить, — перебил его Багрянцев. — Довольно чертей тешить!
— Вот это — резонно, Николай Георгиевич. Приветствую. — И тяжелая, точно свинцовая, рука старого лесоруба легла на плечо Багрянцева.
За чаем в тихой домашней обстановке Николай Георгиевич словно поотмяк, на сердце потеплело. Он рассказал Шайдуровым, что снова переводится в Чарус, в новые лесосеки. Все это хорошо. Только вот беда. — жена, Нина Андреевна, отказалась от него, не разрешила даже войти в квартиру, взглянуть на детей. Понятно, во всем виноват он сам. Куда теперь пойти? Где приклонить голову?