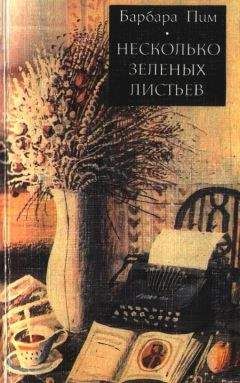Но его поведению можно было безошибочно угадать, что моряк уже отведал «уцененного» спирта.
— Пассажир предполагается до Нуукэна, — сообщил он. — Баба с ребенком.
К вечеру в твиндек по трапу осторожно спустилась тепло одетая женщина и, положив аккуратно завернутого ребенка на нары, разглядела меня.
— Здравствуй! А ты как тут оказался? — удивленно спросила она.
Это была эскимоска из Нуукэна, моя знакомая. Она приезжала в зимние каникулы в Улак и танцевала какой-то русский танец на полярной станции. Ее звали Атук.
Я не стал особенно распространяться о себе, ответил коротко:
— Плыву из Янраная в Улак…
Атук раньше была довольно стройной девушкой, но сейчас сильно располнела и выглядела настоящей районной дамой. Лицо ее тоже округлилось и светилось довольством и сытостью.
— А я вот живу теперь здесь, и Лаврентия… Вышла замуж за Инки, секретаря райкома комсомола, ты, наверное, его знаешь?
— Знаю, — кивнул я, — он мне вручал комсомольский билет.
— Вот как! — удивилась Атук. — В прошлом году, поехала было в Анадырское педагогическое училище, застряла здесь, в райцентре, все ждала попутного парохода. Встретила Инки и вышла замуж.
Я смотрел на нее и думал, как меняется с возрастом человек. Всего лишь каких-то два года я не видел Атук, и вот она уже совсем другая, с определившейся судьбой, замужняя женщина, мать…
— А это дочка — Аня. Вообще-то мой отец дал ей эскимосское имя Анканау, но мы со зовем Аней. Еду показать дочку дедушке с бабушкой, — продолжала тараторить Атук. — Они ее еще не видели, хоть и дали имя. Родила-то я в больнице.
— А что ты делаешь в Лаврентия? — спросил я.
— Как — что? — удивилась Атук. — Я ведь жена ответственного работника. Мне ничего не надо делать. У Инки хорошая зарплата, у нас хорошая комната, теплая, с плитой. Уголь приносит райкомовский истопник… У нас все есть.
Корабль все еще стоял на якоре. На палубе время от времени начиналось хождение, слышался тяжелый топот и громкие разговоры, переходящие в ругань. Нетрудно были догадаться, что всему виной — уцененный спирт. Меня не покидало тревожное ощущение. Светлоусый, помнится, говорил, что за дезертирство полагается расстрел. Правда, кто-то тут же объяснил, что это касается только военнослужащих, а не тех, кого наняли на временную работу.
— Почему мы не отходим? — с беспокойством произнес я вслух.
— И вправду, чего это мы стоим? — заволновалась Атук. — Посмотри за ребенком, узнаю, в чем дело.
Атук проворно поднялась но трапу.
Аня спокойно лежала в своем одеяле и при свете слабенькой электрической лампочки в толстом плафоне, окруженной проволочной сеткой, таращила черные круглые глазенки. Я наклонился над ней:
— Ну что, плывем? Плывем к дедушке и бабушке?
Аня улыбнулась. Словно теплая волна от сердца растеклась по моему телу. Неужели она понимает? Не может быть, уж больно мала. К тому же я говорил с ней по-чукотски, а девочка наверняка слышала только эскимосскую или русскую речь.
— Понимаешь меня? — продолжал я уже по-русски, — Какие у тебя умненькие глазки! Ты — хороший человек…
Атук долго не возвращалась. Так что никто не мешал мне забавляться с ребенком. Я даже спел вполголоса несколько чукотских и русских песен и был в восторге, когда на мелодию марша танкистов Аня вроде бы засмеялась.
— Ты — очень хороший человек! — повторил я.
Вспомнил, как нянчил сначала младшую, сестренку, а потом брата, и, честно сказать, возня с малыми ребятишками никогда не была мне в тягость.
Но вскоре ребенку надоел мой разговор, песни, и вместо улыбки все чаще на ее личике стада появляться гримаса отвращения и приближающегося плача. Тогда я взял Анечку на руки и стал ходить по тесному твиндеку, напевая вполголоса марш танкистов.
На корабле было странно тихо, во всяком случае на палубе больше не слышались шаги. Куда же девалась Атук? Ей давно пора бы вернуться. Может, что-нибудь случилось? Анечка захныкала. Я прибавил шагу, мечась от одного борта к другому.
Наконец я услышал приближающийся, странно оживленный голос Атук.
Она вошла в твиндек в сопровождении знакомого рыжеволосого матроса. Оживление Атук легко объяснилось запахом, которым она обдала меня, громко заявив:
— Такие здесь гостеприимные люди! Пойдем в кают-компанию! Там поужинаем!
Я, помнивший, что судно стоит совсем недалеко от берега, на виду у часовых, охраняющих ворота в зону, мотнул головой:
— Нет, я останусь здесь.
— Послушай, Алла, — заговорил рыжеволосый (только сейчас я узнал, что у Атук есть русское имя), — я не понимаю этого парня. Больной не больной, а какой то странный. Не хочет покидать твиндек, зову в кают-компанию — отказывается.
— Ты чего отказываешься? — сердито заметила Атук. — Люди к тебе с добром, а ты, неблагодарный, не хочешь идти в кают-компанию! Или боишься свалиться за борт? У Пети есть электрический фонарик, он посветит.
Итак, рыжеволосого звали Петя и, по всему видать, Атук-Алла уже успела с ним познакомиться. И второе, что я уловил для себя: на воле теперь достаточно темно, если требуется фонарик. Стало быть, тот, кто захочет что-то углядеть на палубе «Камчатки», а тем более распознать человека, не сможет этого сделать.
— Хорошо, — согласился я, беря ребенка, — пойду.
Я осторожно последовал за Петром, включившим электрический фонарик. Сзади шла Атук-Алла, не переставая громко и весело говорить.
Я с наслаждением, всей грудью вдохнул свежего морского воздуха и глянул на берег.
Мигая фарами, по всей линии строительства посадочной полосы сновали «студебеккеры». Светили мощные прожектора. Электричеством была освещена вся зона, серые приземистые палатки, люди, снующие от одного освещенного пятна к другому. Все это означало, что работа на стройке идет круглосуточно, даже в наступившую осеннюю темень.
В кают-компании ужин был в полном разгаре. Здесь сидел и капитан, который давал согласие взять меня, и еще какие-то люди, одобрительно загалдевшие при виде Атук.
— Алла, садитесь сюда, здесь будет удобно и вам и ребенку, — сидящие подвинулись, пропуская гостью и, само собой разумеется, меня с малышкой.
Стол был уставлен стаканами, здесь же стояла довольно вместительная емкость, как я догадался, с «уцененным» спиртом, тарелка с соленой рыбой, вареным сухим картофелем.
Кок налил мне полную тарелку борща, придвинул стакан и спросил:
— Сколько налить?
— Да что вы! — вступилась за меня Атук. — Он же еще школьник!
— Ну коли школьник, — важно сказал капитан, — то ему еще рано. Пусть ест борщ.
Чтобы приняться за еду, мне пришлось отдать Анечку матери. Подержав ребенка, Атук-Алла огляделась вокруг, ища, куда бы его положить, пока капитан не предложил:
— Пусть она полежит в моей каюте, здесь, рядом. Если заплачет — услышим.
Рыжий Петя бережно взял на руки Анечку и отнес, в капитанскую каюту.
Моряки были сильно навеселе, оживлены, громко разговаривали между собой и все больше о дело, о том, что через час надо сниматься с якоря, чтобы на рассвете подойти к мысу Дежнева, о том, хватит ли горючего до мыса Сердце-Камень… Время от времени они наливали в стаканы огненного напитка и, произнеся какой-нибудь тост, выпивали, потом молча хлебали густой, заправленный капустой, свеклой и американской свиной тушенкой флотский борщ.
Услышав, что шхуна скоро отойдет, я успокоился: как только якорь оторвется от грунта, можно будет считать, что я на свободе. Но почему они так медлят, так долго и сосредоточенно едят, пьют эту огненную жидкость, которую мне еще придется пробовать в неопределенном будущем? Я давным-давно съел свою тарелку борща, выпил чаю со сгущенным молоком, и от сытости и успокоенности меня потянуло ко сну, а моряки все еще сидели в тесной кают-компании, балагурили, шутили с Атук-Аллой, которая была почти что совершенно пьяной, взвизгивала, размахивала руками и беззастенчиво хвасталась, какой высокий районный пост занимает в Лаврентия ее муж.
Я услышал, как заплакала Анечка. А когда ее жалобный голосок донесся до слуха капитана, он решительно поднялся со своего места, хлопнул по столу тяжелой ладонью и объявил:
— Все! Баста! Тем, кто на вахте — занять места!
Голос был тверд и непреклонен, и этим капитан мне очень поправился.
Петя вынес из капитанской каюты расплакавшуюся девочку и бережно передал мне, видимо не решаясь доверить ее опьяневшей матери.
Я осторожно побрел вслед за светлым лучом фонарика, спустился в знакомый сырой и полутемный твиндек и положил ребенка на нары.
В твиндеке Атук притихла. Она распеленала дочь, заполнив и без того душную атмосферу запахом мокрых пеленок, мокрого детского тельца. Потом что-то замурлыкала по-эскимосски, то ли увещевая, то ли браня дочку, пока та блаженно не зачмокала, взяв грудь.

![Юрий Рытхэу - Люди нашего берега [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/149502/149502.jpg)