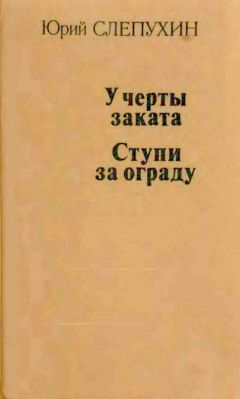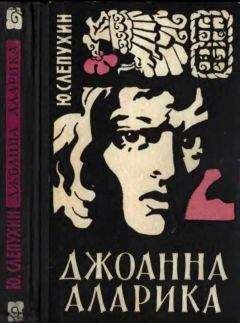— Кстати, я и со своими вижусь не чаще, — заметил Пико.
— Да, я знаю. Поэтому, повторяю, меня и не беспокоило твое отношение к моим родителям… как к определенным личностям, если хочешь… с определенными недостатками, определенными смешными качествами… Между прочим, мне эти недостатки и смешные качества видны больше, чем кому-нибудь. Но вот сейчас, дорогой… после того как ты выписался из госпиталя… я сразу это заметила — твою какую-то озлобленность, что ли. Впрочем, это не просто озлобленность… Я бы поняла, если бы твое несчастье заставило тебя озлобиться против других, здоровых. Это было бы нелогично и не по-христиански, но по-человечески я бы тебя поняла. Но, дорогой, у тебя ведь не это!
— Хорошо, что ты хоть догадалась, — пробормотал Пико.
— Ты не хочешь продолжать этот разговор? — обиженно спросила Лусиа. — Если тебе неприятно, я могу замолчать.
— Нет, отчего же. Я тоже считаю, что откладывать такие вещи неразумно.
— Чудесно. — Лусиа натянуто улыбнулась. — Я вижу, мы по-прежнему понимаем друг друга с полуслова. Так вот, дорогой… я продолжу, если ты не против. Та неприязнь, которую я с самого начала видела в тебе по отношению к моим родителям, — и, повторяю, ничуть этим не беспокоилась, — сейчас она у тебя переносится вообще на все окружающее… Я ведь уже давно вижу, а вчера это только проявилось открыто… подтвердило для меня, если хочешь. Разве я не права?
— Боюсь, что права, Люси.
— Не правда ли, дорогой? И я начинаю думать сейчас — а не отразится ли это на наших с тобой отношениях? Ты ведь очень изменился за эти три года, согласись. Если говорить точнее — за последний год, за последние месяцы.
— Ты права, — повторил Пико, — дважды права. Я изменился, и поэтому изменилось мое отношение к окружающему. А если говорить о наших отношениях с тобой, Люси, то они зависят только от тебя. Ты помнишь — в тот день, когда ты первый раз пришла и плакала у меня в госпитале, — я тебе сказал сразу: Люси, обдумай все заново и серьезно. С приятелями я могу валять дурака и шутить насчет Муция Сцеволы и Лепанто, но брак дело серьезное…
— Я тебе еще тогда сказала, что не хочу больше слышать ни слова на эту тему!
— Я помню, Люси, я помню. Но ведь с тех пор кое-что изменилось, не так ли? Прежде всего, как ты говоришь, изменился я сам. Точнее, я изменился раньше, но тогда ты этого еще не видела. Так вот, давай теперь думать, трезво и спокойно.
Лусиа рванула вожжи так, что конь замер на месте и стал пятиться, всхрапывая и изогнув шею в кольцо.
— «Трезво и спокойно!» — крикнула она, обернувшись к Пико. — Знаешь, мой милый, когда начинают «спокойно» говорить о любви — это первый признак, что ее нет!
Пико открыл уже рот, собравшись протестовать, но тут же почувствовал, что любое слово будет ложью, и ничего не сказал. Лусиа правильно поняла его молчание, рассмеялась коротким нервным смешком и тронула коня. Коляска опять медленно заколыхалась по неровной пыльной дороге, под жарким утренним солнцем.
— Это хоть делает тебе честь, — насмешливо сказала Лусиа через минуту. — Твоей искренности, я хочу сказать. Кстати, это новое качество. Зачем ты обманывал меня три года?.
— Я тебя не обманывал, — глухо сказал Пико.
— Значит, ты обманывал себя!
— Не знаю, Люси. Думаю, что если тут и был какой-то обман, то — скорее всего — невольный обман с твоей стороны. С девушками это часто бывает.
— Браво, Пико! Теперь не хватает одного — чтобы ты во всем обвинил меня.
— Дело не в обвинениях, я тебя ни в чем не обвиняю. Я хотел только сказать, что раньше между нами никогда не возникало никаких разногласий… А мы с тобой о многом разговаривали, и о политике тоже. И ты мои взгляды знала. Разве они изменились?
Лусиа язвительно рассмеялась.
— Твои взгляды! Они всегда были сплошной путаницей, если хочешь знать. То он католик, то он коммунист, то он начинает находить какое-то «рациональное» зерно в перонизме… Иди ты со своими взглядами!
Пико, задетый за живое, помолчал, но через минуту заговорил снова:
— Не будем об этом говорить. Тебе, очевидно, более понятны взгляды неграмотного монаха или партийного догматика — тех сомнения не посещают. Но я так жить не могу и никогда не мог. Повторяю, Люси, ты это знала всегда. Почему же ты раньше не смеялась надо мной?
— Потому что любила, идиот! Я тебя ревновала ко всем своим подругам, даже к этой курносой аристократке Альварадо, которая в то время разыгрывала из себя недотрогу. Я могла не понимать твоих взглядов, но ни одна дура не признается в этом любимому человеку!
Пико усмехнулся:
— Если сейчас ты считаешь возможным такое признание, мне остается сделать вывод, что…
— Если ты так торопишься с выводами, можешь делать какой угодно, — холодно сказала Лусиа, успевшая снова взять себя в руки. — Собственно, уже нет смысла продолжать этот разговор… потому что мы, кажется, уже во всем объяснились.
— Значит, ты все же не можешь простить мне вчерашней истории?
— Меня совершенно не волнует, что ты поругался с Жильярди. Он действительно спекулянт, и ты правильно его осадил. Хуже то, что мы с тобой просто не подходим больше друг другу, понимаешь? Вчера я это поняла, и в этом смысле я действительно не могу простить тебе вчерашнего. Та среда, в которой я живу и к которой я привыкла, вызывает в тебе злость, презрение, и я уж не знаю, какие еще нежные чувства… А я боюсь, что не сумею привыкнуть к твоей.
Пико молча пожал плечами. Очевидно, нужно было что-то возразить, но он молчал, чувствуя только желание поскорее кончить этот разговор и равнодушное удивление той легкостью, с какой превратилась в чужую сидящая рядом с ним Лусиа Ван-Ситтер, его невеста, официально обрученная с ним два года назад. Неужели он действительно обманывал ее или себя все это время?
Когда они вернулись домой, завтрак уже кончался и за столом было почти пусто — большинство гостей разбрелись кто куда. Это избавило Пико от встречи с его вчерашним оппонентом. После завтрака он сказал Ван-Ситтеру, что неотложные дела лишают его возможности воспользоваться и дальше гостеприимством этого дома; дон Лауреано ничуть не удивился и не стал уговаривать его сверх того формального минимума, который диктуется простой вежливостью в отношении уезжающего гостя. Пико показалось, что отец Лусии одновременно и огорчен, и обрадован их разрывом.
У себя в комнате он сел к письменному столу и стал лениво собирать книги, откладывая в сторону взятые из библиотеки Ван-Ситтеров. Потом он позвонил в Сан-Рафаэль, узнал, когда будет ближайший самолет на Буэнос-Айрес, и заказал себе место. Самолет шел в девять вечера — впереди был целый день. Но провести его в этом доме было бы трудно.
Договорившись с управляющим насчет машины, Пико зашел к Лусии и сказал, что уезжает. Они посидели, поговорили. Лусиа дала ему какое-то пустяковое поручение к какой-то из своих столичных подруг; Пико тотчас же о нем забыл. Он смотрел на свою бывшую невесту и снова и снова удивлялся — как быстро и легко стала она чужой, эта смуглая худощавая девушка, похожая скорее на цыганку из Гренады, чем на внучку роттердамского негоцианта. Действительно ли он ее когда-то любил?
— Ну что ж, — сказала Лусиа, когда разговор иссяк и Пико встал чтобы уйти. — Счастливого тебе пути, в прямом и переносном смысле, Я думаю, мы делаем правильно. Кстати… чтобы уж соблюсти все формальности…
Она сняла с пальца обручальное кольцо и на раскрытой ладони протянула его Пико. Тот на секунду пришел в замешательство: что, собственно, полагается делать в подобном случае? Забрать свой подарок — вроде смешно, оставлять — нелепо… Лусиа разрешила эти сомнения, сама сунув кольцо в карман его пиджака. Пико дернул плечом, пробормотал что-то вроде «Будь счастлива» и вышел.
Через час он был уже в Сан-Рафаэле. Оформив билет и оставив чемодан в аэропорту, он пообедал без аппетита, потом долго слонялся по жарким улочкам затихшего в час сиесты провинциального города, пил у красных ящиков ледяное «кока-кола» и тосковал по запретной сигарете. Улицы, замусоренные обрывками серпантина, обгорелыми клочьями петард и хлопушек, были украшены протянутыми поперек гирляндами разноцветных лампочек и электрическими вензелями «1956».
«Весело он для меня начался, этот пятьдесят шестой», — думал Пико, поглядывая на праздничные транспаранты по сторонам. Впрочем, ощущения потери у него не было. То и дело возвращаясь в мыслях к разрыву с Ван-Ситтерами, Пико испытывал даже чувство какой-то странной освобожденности. Все, что отныне могло с ним произойти, касалось его одного, и никого больше.
Вечером, устав от жары и безделья, Пико сидел в скверике на площади и ждал таксиста, который должен был отвезти его в аэропорт. С таксистом он уговорился еще днем, после того как тот сначала пытался соблазнить его поездкой в какое-то историческое место за городом, потом пожаловался на отсутствие веселых заведений и растущую дороговизну и, наконец, спросил о руке. Пико ответил, что руку потерял на охоте, в Чако. Выследили здоровенного льва[85], а тот прыгнул с дерева — пришлось бить на лету, и один парень промахнулся, разрывной прямо вот сюда — только и остались лохмотья. Таксист посочувствовал, рассказал о ловле кайманов в Парагвае, потом они распили несколько бутылок пива и поговорили о политике. Таксист с одинаковым воодушевлением ругал и Перона, и Лонарди, и Арамбуру. «Да, все они хороши», — сказал Пико.