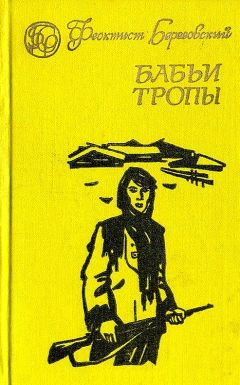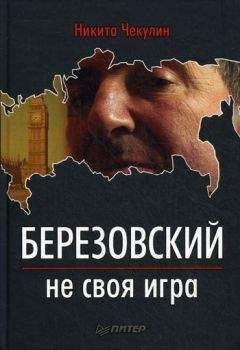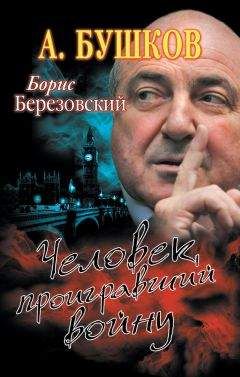Петровна вздохнула.
— Ведь ты подумай-ка, Настя, что они делают, — гневно продолжала Катерина. — Скобов-то двух своих снох подсунул гулевану. Третью не успел, другие мужики перебили у него гулевана. Всех трех сыновей отослал на пашню, а сам тут гулянку затеял, старый варнак… До чего же, значит, довела его жадность к деньгам да к кумачу приискателя, а? — Катерина плюнула в сторону. — Тьфу, старый лиходей.
Она опять схватила Петровну за руки и, заглядывая в ее потупленные глаза, зашептала:
— Чего же нам-то жалеть таких псов? Себя надо пожалеть, Настя, себя! Других баб пожалеть надо… которых еще не опоганили. Ну!.. Что молчишь-то, Настенька?
— Ума не приложу, — повторяла совсем растерявшаяся Петровна.
А Катерина, сверкая черными и злыми глазами, шептала ей на ухо:
— Потолкуй с Зинкой Будинской — приложишь!.. Говорю тебе: никто нам, бабам, не поможет. За людей ведь нас не считают. Чего их жалеть? Потолкуй… Поможет Зинка-то… Выручит! Ей-богу!.. Мне она присоветовала… И тебе поможет… Отучить надо варнаков от изгальства… А то весь век будут измываться над нами… Вот увидишь!
От этих слов у Петровны лицо запылало, сердце перестало биться.
Посмотрела она удивленными глазами на соседку, но ничего не ответила.
Повертелась Катерина еще немного около Петровны, помолчала и шмыгнула из двора домой.
А Петровна вышла из пригона и, остановившись на заднем дворе, долго смотрела через изгородь в ночную тьму.
Вдруг по ту сторону изгороди вырос человек. Оперся руками о балясину, тихо окликнул:
— Петровна?
— Я!
Кинулась Петровна к изгороди, повисла на шее у Степана. Шептала:
— Степа!.. Родимый мой!.. Каждый вечер ждала тебя, все глаза проглядела… Степа!.. Где же ты был?
— С дедом Никитой в бане жил. У Еремеевых… Боялся на людях показываться…
Петровна схватила его за руки.
— Болезный мой!.. Что будем делать-то?
— Ухожу я, — ответил Степан, обнимая ее за плечи.
— Куда?
— В волость. Поживу там… А дальше видно будет…
Замолчали оба, задумались. Петровну лихорадило.
Поняла она, что не в волость идет Степан. Знала, что нечего делать Степану в волости. Одна ему дорога — бродяжить. Поняла все это и обомлела от горя. Оборвалось что-то в груди ее. На миг в глазах потемнело. Кое-как пришла в себя и еще раз тихо спросила Степана:
— А дальше-то что, Степа?
Степан вздохнул:
— Может быть, бродяжить уйду.
Задыхаясь, Петровна зашептала:
— Не надо!.. Ради истинного… Родимый мой!.. Ступай в волость! Болезный мой!.. Сокол ясный!.. В волости оставайся, Степа, в волости…
— А потом? — спросил Степан, раздумывая.
— Жди весточку… с попутчиками… Непременно жди!.. Коли скажут: Петровна поклон шлет — возворачивайся обратно сюда. Беспременно! Слышишь?
— Ладно, — сказал Степан, раздумывая и взвешивая предложение Петровны.
Прильнула Петровна горячими губами к лицу Степана.
Целовала и приговаривала:
— Жди… беспременно… Возворачивайся, когда весточку подам… Болезный… Сокол… А сейчас уходи… как бы не заметил кто…
Оторвалась. Понеслась обратно во двор.
А утром, чуть свет, когда спали еще Филат и старуха, Петровна стояла на задах будинского двора — с женой Будянского шепталась:
— Извелась я, Зинушка! Костью стал в горле… Филат… рыжая собака… Либо на себя руки накладывай… либо…
У Зинки сухое, морщинистое и горбоносое лицо в улыбку скривилось.
— Почему на себя? Дурные вы, бабы… Дуры!
— Не знаю, Зинушка… Сама не знаю, что мне делать? Научи!
— Надо что-нибудь зробить! — насмешливо проговорила Зинка. — Парень-то ушел? Степан-то…
— Ох… ушел! Сердечушко мое… Помоги, Зинушка! Присоветуй!
— Что советовать? Один совет… Катерине дала и тебе дам.
— А сколь за это, Зинушка?
— Пудов десять ржи принеси. Можешь одна?
— Могу… Не сразу, но принесу… А когда?
— Да хоть сегодня вечерком, попозднее.
— Ладно. Спасибо, Зинушка! Уж не оставь!.. По гроб жизни буду помнить!
— Только смотрите, бабы, — погрозила пальцем старая полька, — языки прикусите… И ты и Катерина…
— Господи!.. Зинушка!.. В гроб унесу, — захлебнулась Петровна хлынувшими слезами.
— Добре… Ступай…
Точно пьяная шла Петровна, возвращаясь к своим задворкам.
В день покрова, когда гуляла вся деревня, неожиданно умер сосед Филата — Силантий Ершов.
Всего три дня и хворал.
Заплаканная Катерина пришла звать Филата помочь обрядить покойника.
Нездоровилось и самому Филату. Но не отказался. Пошел. В избе Силантия застал двух старух и бродягу Никиту.
Старухи печь топили — воду готовили, а Никита в рваном армячишке сидел около кровати, на которой вытянулся Силантий.
Катерина зачем-то на двор выбежала.
Взглянул Филат на покойника — страшно стало.
Лицо у Силантия, как головешка, черное. Глаза выкатились. Вместо рта — черная зияющая дыра.
Старый бродяга тряхнул белыми кудлами и, скаля черные огрызки зубов, подмигнул Филату:
— Ишь ты!.. Болезнь-то какая… а?
Филат с трудом выговорил:
— Не видал я сроду… таких покойников…
— А я видал, — усмехнулся бродяга. — Бывает… видал я…
Помолчали.
Старухи подали воду. Положили покойника к стене на лавку. Стали обмывать.
Пришла Катерина. Пала на кровать и заголосила:
— Да соколик ты мой я-асный… Да сердечушко мое болезно-е-е… Да на кого же ты меня споки-ин-ул…
Уткнула лицо в подушку, чтобы люди не увидели, что слез на лице не заметно, и выла:
— Да как же я буду теперь жить на белом свете сиротинушко-о-ой…
У Филата от бабьего воя да от страшного вида покойника закружилась голова. Кое-как выговорил:
— Не могу я… кружит…
Посмотрел старый бродяга на бледного Филата, посоветовал:
— Иди-ка, паря, домой… Справимся без тебя… Вижу, худо тебе… Иди!
Постоял Филат, покачался на ногах. И вышел.
Похоронили Силантия. Без попа хоронили — далеко жил поп, верст за восемьдесят. А по деревне, между бабами, новый разговор пошел:
— Филат захворал…
— Какой?
— Да Косогов — Петровны муж.
— Очень захворал-то?
— Как бы не умер… Плохой…
Филат три дня головой и животом маялся. На шум в ушах жаловался. Привередливый стал. То и дело пить просил:
— Настя… пить…
— Да ведь пил уже…
— Еще хочу, — настаивал Филат. — Только нет ли другой воды? Невкусную даешь…
Петровна ворчала:
— Какой же еще надо? Вся вода одинаковая…
— Почему раньше не такая была?
— Такая и раньше была… Во рту у тебя неладно… Вот и невкусной кажется…
Пил Филат воду и таял.
Вместе с ним мучилась и Петровна. То жгучая злоба охватывала, то раскаяние терзало. Падала Петровна на колени перед иконами. Держала в руках Зинкин порошок, шептала:
— Владычица!.. Не могу!.. Помоги!.. Извелась я с рыжей собакой… Опостылел!.. Помоги, заступница!..
А через сенцы, из горницы, тягуче хрипел голос Филата:
— Настя, попить бы…
— Пил ведь… Погодил бы! — не зная зачем, уговаривала мужа Петровна.
А Филат настаивал:
— Говорю, дай… Нутро горит…
Черпала Петровна ковшом из ведра воду. А руку с порошком точно кто подталкивал к ковшу.
Так тянулось три дня.
На четвертый день Филат скончался. Петровна убежала в пригон. Валялась на соломе и выла.
Старуха свекровь позвала мужиков и баб обмывать покойника.
Собрались.
Старый бродяга и сюда приплелся.
Свекровь работала в кути, около печки, и шептала молитву:
— Святый боже, святый крепкий, помилуй нас…
Бабы смотрели на покойника и дивились:
— Черный-то какой!
— Как Силантий…
— Должно быть, одна болезнь-то… а?
— Поветрие это…
А старый бродяга загадочно бормотал:
— Бывает… Видал я… Всю Сибирь прошел. Видал. Случалось в иных местах… Да, случалось…
Похоронили и Филата.
Не любили кабурлинцы покойников долго в доме держать. Скоро после смерти хоронили.
А недели через две еще один мужик умер — Петр Анучин. Пьяница и буян был. Ребят бил и бабу изводил…
Кабурлинцы говорили:
— Отмаялась Анучиха… Прибрал бог пьяницу… Слава тебе, господи…
— А черный-то какой!
— Как Филат…
— Ну, прямо как есть… мор!..
Немного времени прошло — старик Еремей Скобов скончался. Тоже не очень жалели кабурлинцы. Такими словами провожали старика в могилу.