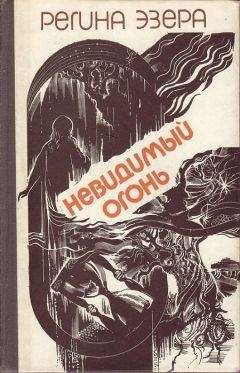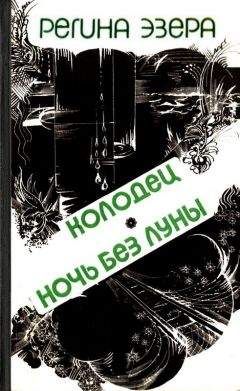Кончив сгружать привезенный хлеб, Ритма вернулась к прилавку помочь другой продавщице обслуживать покупателей. И ничего нет естественней и проще, чем встать в хвост, дождаться своей очереди и купить что-нибудь из того, что здесь есть. Немного — сколько там влезет в папку, в карманы пальто. Магазин полон запаха хлеба и леденцов: ну, скажем, буханку свежего черного хлеба взять под мышку и грамм двести-триста монпансье, их так хорошо погрызть, когда проверяешь тетради, особенно сочинения, — от леденцов не слишком полнеешь, зато они взбадривают и даже слегка успокаивают, когда наткнешься на идиотский ход мысли или застрянешь в синтаксических джунглях.
И Аскольд становится в очередь и поверх голов наблюдает за Ритмой, смотрит на ее ловкие, рассчитанные движения, маленькие пухлые ладони, которые, блестя ободком кольца на безымянном пальце, взвешивают, сыплют, подают, получают деньги, отсчитывают сдачу, и снова режут, и кладут на весы, и тянутся за булками, и пустые бутылки меняют на полные. С легкой улыбкой, которой сам не замечает, он следит за тем, как Ритма делает такие будничные и привычные для продавщицы движения, приобретающие значение чуть ли не ритуала, когда их совершает Ритма, не поводя и бровью в сторону Аскольда и все же — он это смутно чувствует — постоянно ощущая на себе его пристальный взгляд, и оттого, пожалуй, держится слегка недоступно, без прежней естественности, непринужденности, однако это притворное небрежение по-своему красноречивее пылких взглядов. Деланное равнодушие говорит только об обратном, и Аскольд улавливает это безошибочно и сразу.
Ритма сегодня уже не такая, какой была вчера, и по мере продвижения Аскольда к прилавку кажется даже, что руки-ноги у нее как связанные: из рук падает нож, звякает об пол монета, палец цепляет на счетах лишнюю кость. Все это, может быть, просто случайности, каких за рабочий день, как ни крутись, наберется немало, но не менее вероятно, что причина этих мелких промашек в скрытой женской нервозности, ведь сами по себе они бы не стоили и внимания, если по этому поводу пошутить, посмеяться, на худой конец чертыхнуться, что ли. Ритма же, напротив, держится серьезно, слишком, чуть не до робости серьезно — как на экзамене, как на конкурсе, когда за каждое движение ставят оценки, баллы. Со вчерашнего дня что-то изменилось. Если тогда, в машине, Аскольд чувствовал себя не совсем уверенно, все время ощущая над собой власть Ритмы, она же, наоборот, была смела, лукава и даже немного дерзка, то сегодня она смущается и силится скрыть неуверенность. И его это окрыляет, вдохновляет, расковывает и поднимает в собственных глазах, иначе он не был бы мужчиной: уклончивость побуждает к действию, а бегство вызывает желание догнать — извечные законы природы не сгинули вместе с мамонтами и морскими коровами, они живы и в семидесятые годы двадцатого века и справедливы для homo intellectualis почти в той же мере, как для неандертальца.
Но вот Ритма поднимает глаза и обращается к Аскольду, в конце концов это ее обязанность — независимо от желания или нежелания, симпатий или антипатий — уделить внимание покупателю и что бы там ни было выслушать, обслужить.
— Что будем покупать, Каспарсон?
Ну, тон у нее прежний, как и вчера — свободный, слегка игривый, и слова из ярко накрашенного рта вылетают круглые и гладкие, как желуди… Только взгляд, внимательный, испытующий, устремлен вверх, в лицо Аскольду с едва заметными, скрытыми тенями беспокойства. Он просит триста граммов леденцов, самых дешевых конфет, какие здесь есть, и, сам не зная зачем, спрашивает:
— А есть у тебя… арманьяк?
Взвешивая леденцы, Ритма бросает на него быстрый взгляд, точно стараясь угадать, что это — просто болтовня, лишь бы не молчать, или же намек на вчерашнее, ведь они, когда вместе ехали, говорили про арманьяк.
— Сегодня нету, — шутя отвечает она, как будто в Мургале он когда-нибудь был. — Зато есть «Волжская».
Аскольд вздрагивает с деланным отвращением, и они оба смеются.
— Что еще? — спрашивает она, подавая кулек леденцов.
— Буханку черного, пожалуйста.
Она обводит взглядом полку, придирчиво выбирает один каравай, потом другой и, поколебавшись, еще и третий в поисках самого лучшего — как же иначе, и кладет перед Аскольдом хлеб с коричневой блестящей коркой, гладкий, без трещин и хорошо пропеченный.
— А нельзя попросить бумаги? В мою папку не влезет.
— Для хлеба не полагается, Каспарсон.
— Как и для селедки? — шутливо справляется он.
— Для чего?
— Для селедки.
Она со смехом достает лист серой оберточной бумаги с обтрепанными краями.
— Что еще будем брать?
— Спасибо, Ритма, все. Я и так скупил полмагазина.
Стоит все это пятьдесят четыре копейки, как он подсчитал, и даже приготовил мелочь. Он кладет деньги, и однокопеечная монета катится по прилавку, но Ритма у самого края ловит ее, накрыв ладонью, как муху.
— Верно?
— Да… кажется, да, — отзывается она, и рассортировывая мелочь в ящички кассы, неожиданно спрашивает: — У тебя что, завтра получка, Каспарсон?
— Нет. Почему ты так думаешь?
И она вдруг краснеет — так внезапно и густо, что разве только дурак не поймет, что она хотела сказать. Его это задевает и сердит. И все же краска на лице и явное смущение Ритмы, которая, видно, хотела пошутить дружески и беззлобно, а выпалила эти слова как-то неделикатно и очень прямо — как пальцем в глаз ткнула, лишний раз свидетельствует о том, что она сегодня не в себе и теряет над собой контроль. За привычно кокетливым тоном сквозит незнание, как себя держать с ним, она старается быть прежней, веселой и чуть легкомысленной, но это ей слабо удается.
— Много будешь есть, растолстеешь, — примирительно шутит Аскольд, думая при этом, что за мелкие покупки, видимо, надо расплачиваться по меньшей мере пятеркой, чтобы со своей мелочью и в самом деле не выглядеть как нищий на паперти. Усмехается: век живи — век учись! А она, заметив его усмешку, краснеет еще больше.
— Ты на меня намекаешь, Каспарсон?
— В каком смысле?
— Насчет еды и толщины.
— Боже упаси, Ритма, ничуть! — восклицает он искренне и сердечно.
И она, помолчав немножко и уже на него не глядя, говорит:
— Следующий!
Вот и все. Остается взять буханку под мышку и шагать к выходу. Ну, как же обстоит с романтикой, которой он, направляясь сюда, жаждал? Он и сам не может сказать как, и дала ли ему эта встреча удовлетворение или обманула надежды. Но чего же он, собственно, ждал, как ее себе рисовал?
И все же… Есть какая-то невыразимая словами, почти неуловимая связующая нить между ним и Ритмой — как сигнализация на расстоянии, как шифрованная связь.
У двери Аскольд, не удержавшись, оглядывается, хотя лучше, разумней этого не делать здесь, в магазине, на глазах у людей. Ритма глядит ему вслед, смотрит серьезно, кажется даже грустно или, быть может, тоскливо, а его — его обдает горячей волной.
«Прямо как мальчишка! — думает он, стыдясь своего хмельного волнения, столь неприличного его годам и к тому же в неподходящей обстановке. — Во всяком случае, ничего такого не произошло, что давало бы хоть малейший повод для телячьего восторга».
Это попытка взглянуть на себя со стороны, себя остудить — тщетные старания, ведь в глубине души он этого вовсе не хочет, вовсе не желает остыть, успокоиться и погаснуть. Пусть! Пусть это мальчишество, пусть это глупость, пусть даже эта приподнятость — самообман. Разве мало есть видов самообмана и средств для его поддержания? Ну, скажем, алкоголь, наркотики или мания величия, сознание своей незаменимости. Последние в отличие от первых двух имеют лишь то преимущество, что они не губят здоровье. А может быть, все-таки губят? Приводят к бессоннице и неврозам? Ведут к накоплению в организме холестерина и развивают атеросклероз, а он, как известно, вызывает инфаркты, инсульты? И разве вся жизнь, в конце концов, не сплошная порча здоровья, иначе бы она не завершалась — не могла бы по логике вещей завершиться — естественной развязкой, именуемой смертью? И разве улыбки, так же как боль, не оставляют морщин? И разве от счастья не льют слезы, так же как от страданий? И разве первый же вздох ребенка не вылетает с криком, а не со смехом?
Это философия, ладно, ну а мораль?
Доброе от злого, верное от неверного отделяют устои и традиции, законы и условности — и все это действительно ясно и понятно, бесспорно и непреложно, если взять его порознь, по частям, по каждому тезису в отдельности, но все становится очень расплывчатым, растяжимым и шатким в той путанице, которую называют человеческой жизнью и человеческим характером. Вряд ли кто станет оспаривать право Аскольда на счастье в общем и целом, но как только он сделает шаг к его осуществлению на практике, многие тут же назовут его негодяем и подлецом, осудят и отвернутся, и понятия счастья и несчастья сразу же утратят какой бы то ни было конкретный смысл или же в любом случае право на счастье будет признано только за Авророй.