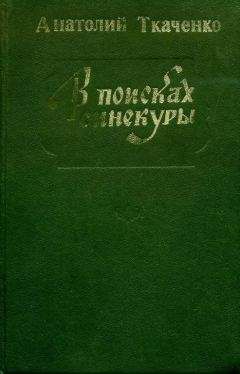Вспомнил, что дед Улька приглашал смотреть поросят, оделся, глянул на себя в зеркало. Там был крупный, суховатый человек, с резкими складками у носа, иссеченным морщинами лбом, темными, словно бы круто посоленными волосами — поистине памятью моря, — довольно свежей зеленоватостью чуть воспаленных глаз и коротко стриженными усами и бородой. В море он всегда брился, чтобы не походить на лохматых стиляжничающих бичей, а тут отпустил бородку и усы, слегка под Защокина. Может, еще и угодить Анне, однажды сказавшей: не люблю мужчин бритых — все на одно лицо. Нравился ли он себе? Нет. Нос тяжеловат, губы тонки, глаза хоть и не выцвели, но упрятаны под хмурые надбровья. Поэтому, вероятно, он смолоду привык считать главным в себе не внешнего, а внутреннего человека и больше заботился о нем, да о здоровье вообще, помня, что в больном теле дух томится вдвойне. Застыдился вдруг растительности на своем лице («Приукрасился по молодежной моде!») и едва не сбрил ее тут же, но спешно оправдался мыслью: новому месту — новый облик.
Так и пришел к Ульяну Малахову в разладе с самим собой, что сразу было замечено приглядистым дедом, явно взбодрившим себя рюмочкой «нежинской» по случаю второго пасхального дня, благополучия душевного и домашнего. Седой, гривастенький, кряжисто широкий, в расстегнутой до пупа рубахе, он резко вспрыгнул со стула и запел радостным тенорком, вскидывая колючие бровки, омывая Ивантьева прирожденной соковичской синевой глаз, лишь слегка замутненной временем.
— Добро, Евсей Иванович! Люблю угадливых. Сижу, думаю: а ведь должон прийти Евсей Иванович, как раз ко времени. Яичко скушать, чайку попить, а главное — побеседовать. Проходи, значит, лупи яичко...
В большой тарелке на столе сияла горка красных, желтых, фиолетовых яиц, они отражались в начищенном латунном боку самовара, а самовар — в зеркале у стены, и вся горница светилась живительными красками; они трепетали на стенах, потолке, оконных стеклах, казались неопаляющими огнями.
Тепло, уют, тишина дома одарили Ивантьева старой, как вечность, новой, как жизнь, нужной, как спасение, мудростью: на то и люди, чтобы не быть одинокому. «Сосед ближе дальней родни», — гласит пословица. Но — здешний, сельский, живущий землей и от земли сосед. Тот, из многоэтажного каменного дома, делит с тобой лестничную площадку, иногда шахматную доску, или, при дружбе, праздничный стол, этот — само бытие. Этот радуется тебе, как второй половине самого себя, и спешит угодить самыми добрыми, самыми нужными тебе словами.
— Запечалился, Евсей Иванович, запечалился. Вижу. Понять тоже могу: такой перелом жизни устроил. А ты не сиди со своими думками отдельно. Хутор — кроха, да пойти есть куда. Я бы сам тебя проведал, если б не хозяйство: корова телилась, свинья поросилась... Поросятки — во! — Дед Улька деликатно, двумя пальцами, взял сырое некрашеное яйцо, поднес к оконному свету. — Розовенькие как это яичко! Выберешь любого, ливенской породы. Что сало, что мясо — нежности высшей. Дарю на обзаведение. — Он веско накрыл своей скрюченной ладонью руку Ивантьева, не соглашаясь выслушивать его возражения, продолжал мыслить вслух: — Правильно понимаешь: будет занятие у тебя — будет разум на месте. Вот теперь в газетах пишут, по радио передают — пьянствуют шибко. Ну, в городах точно не скажу, что к чему, а про мужика, крестьянина, кое-чего знаю. Возьми меня. Не будет дела — чем займусь? Хобби там разные, марки, вещички собирать не приучен, в театрах, кино особенно не разбираюсь... Значит? Правильно: бутылочкой развлекаться стану. Мужик как работал? От зари до зари, да еще с прихватом цыганского солнца, как у нас говорили, — луны ясной. Гуляли по праздникам исключительно. А теперь посмотри, Евсей Иванович. Вспахал — получил, посеял — получил, другое, третье — в кассу опять... Он же крестьянином разучился быть, он же душу свою от стыда и безделья заливает. Вот как иной раз бывает: скопом, все вместе, да один тянет, а четверо едут. Насмотрелся за свою жизнь. И конюшил, и скотничал, и печи клал, и дома рубил, и медаль заработал, и почет от людей... Скажу тебе: мечта хорошая — скопом, а мужик иной, он мужиком остался: имеется еда, выпивка — не пойдет работать. Натура старее сознательности. На себя он привык, с личной выгодой, тут жилы из себя вытянет. Слыхал, бригады кое-где создали, чтоб от вспашки до уборки поля вести, расчет по готовой картошке? Картошечка сразу похорошела, в весе прибавила, хоть ребята — молодые механизаторы... Ну, вообрази, Евсей Иванович, меня без хозяйства или чтоб я ходил работать на богатый двор Борискина? И считай, нету меня, пенсию понесу к Аньке в магазин...
— Я те понесу, сивый гуляка! Может, еще посватаешься? Она те живехонько гривку повыщиплет!
Никитишна положила на стол пучок остроперого зеленого луку, вытерла руки о фартук, поцеловала Ивантьева без пасхальных присказок, обдав его уличной прохладой, холодком губ и румяных щек, села пить чай, говоря:
— Вижу, идет Евсей Иванович, думаю, надо лучком угостить, поднялся уже в парнике, и тороплюсь управиться — не ушел бы, рюмочкой угостился, а тут, вижу, угощает Ульян. И где берет, куда прячет? Прямо хоть милицию на розыски вызывай.
— Если Потапова, — сказал Улька, — не найдет. Самого жинка преследует за летающие тарелки с рюмками.
— Уж так! — подтвердила Никитишна, колыхаясь от легко подступившего смеха, и спросила улыбающегося Ивантьева: — Он вас небось политическими вопросами замучил? Как свободная минута — читает, штудирует газетки, ворчит да ко мне пристает, чтоб слушала особо важные места. А я мало смыслю, знаю свое главное место — на кухне, еще во дворе.
— Нет, — ответил Ивантьев, — мне очень интересно. И не политика тут — жизнь сельская по крестьянскому разумению. Такое разумение не вычитаешь, оно через руки в голову входит.
Никитишна кивнула: мол, все так и есть, она согласна, работник Ульян добрый, но и за ним присматривать надо, а Ивантьев вспомнил слова доктора Защокина о деде Малахове, вычитанные в записной книжке: «Иван при Марье — что скопил бы, то прокутил бы, да жена строгая». С юмором, метко подмечено, ибо Малаховы — из тех семей, которые славятся хозяином, а живут неприметной управой хозяйки. Лишь в таком, и не редком, единении они сильны, жизнестойки.
— Читаю, разумею, — подтвердил Ульян, разворачивая на столе газету. — И вас просветю. Слушайте в оба уха: «По статистическим данным, в 1978 году в личном подсобном хозяйстве было произведено около трети мяса, молока, овощей, значительное количество фруктов, ягод. Увеличение производства в этом секторе не требует крупных капитальных вложений, дополнительных материально-технических ресурсов». Все правильно, ресурсы сами изыщем, из лома-перелома технику соберем, производство увеличим, чтоб половину всего давать. Только и нам помочь надо. Чем, как думаешь, Евсей Иванович?
— Полагаю, личные хозяйства пора считать важным делом, раз есть к нему тяга у людей, тогда и помощь определится... — Ивантьев развел руки, показывая, что пока еще мало разбирается в тонкостях сельхозпроизводства.
— И думать особо ни к чему, когда тут умно написано. — Улька повел толстым крючком пальца по газетным строчкам. — «Личные хозяйства являются частью агропромышленного комплекса, и оценивать развитие всего нашего сельского хозяйства надо комплексно, учитывать, да и планировать динамику всех его составных частей». Слышишь? Дальше указывается, что необходимо выделять пастбища, корма, продавать нам не выбракованный скот, а породный. Приводится пример из братской Венгрии: «Здесь в кооперативах и госхозах насчитывается более тысячи агрономов-экспертов по приусадебному хозяйству. Во многих есть заместители председателя по личному хозяйству». Мы пока ни одного такого человека не имеем. А даем, как слышали, треть продукции. Значит, жив пенсионер дед Улька, другой, третий мужик. Знать, не токо выпивать горазды!
— Будет орать-то! — потянула Никитишна из рук мужа газету, но тот хватко прижал ее к столу, бумага с треском надорвалась. — Во, грамотей! Разнежился от своей «нежинской», язык с привязи спустил. Сколько раз тебе говорил Борискин — не мели лишнее, из такой муки лепешек не испечешь, а на сухарики заработаешь...
— Борискина со мной не путай. Он — особый элемент. Силы сохранил, пока мы страну кормили. Теперь сатанеет на личном участке, он у него с малый колхоз будет. Про таких здесь тоже написано. Один учитель бросил школу, занялся сельским хозяйством, имеет «Ладу», двух лошадей, свою сенокосилку, трех коров, бычков и плюс еще теплицу. Жена тоже ушла из школы, родственники помогают. На глазах у народа обогащаются без помехи от высшего образования. Борискина по всем показателям превзошли? Чем они опасны, скажи, Евсей Иванович? Ладно, скажу за тебя. Тем, что пользуются моментом. А вот мы наладим хозяйство да вывезем свои излишки туда, откуда они рубли мешками везут. Не станет у них даровой наживы, глядишь, один в учителя вернется, другой — в фельдшера. Не крестьяне они — вот в чем главное дело. Не они кормили, не они и накормят страну.